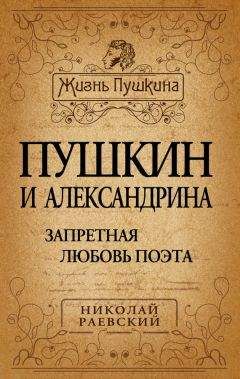Светскую жизнь она, несомненно, любила, но в то же время порой ясно чувствовала пустоту «тревоги пестрой и бесплодной». В такие дни хотелось ей чего-то иного…
Вернувшись с полюбившейся ей Черной Речки в город, Долли пишет 11 сентября 1830 года: «Я жалею о более независимой, более спокойной жизни на даче; здесь светские обязанности возобновляются в полной мере. Не понимаю, почему Бог сделал меня посольшей, я действительно не была рождена для этого».
В следующем году по тому же самому поводу Фикельмон пишет, вспоминая о даче: «Я виделась почти исключительно с людьми, которых мне хотелось видеть, и не выходила из своей гостиной. Здесь (в Петербурге. – Н. Р.) все принимает более чопорные формы <…>» (14 сентября 1831 года).
По мнению Н. Каухчишвили, которое кажется мне совершенно справедливым, «муж понимал, что жена предпочитает спокойную жизнь, и писал ей в 1834 году из Москвы в слегка ироническом тоне: «Я вижу тебя в твоем кабинете, одетой в кацавейку («katzaveika»), бранящей погоду и все же опечаленной возвращением в город, где ты почти что перестанешь гулять»[185].
Да, немало двойственности было в натуре Долли… Двойственным было и ее отношение к светскому обществу. Пока не задумывалась над тем, что делает, она спокойно и весело блистала в гостиных и бальных залах Флоренции, Неаполя, Петербурга, Вены. Но задумывалась, по-видимому, нередко, и тогда на бумагу ложились грустные, а порой и гневные строки.
12 декабря 1831 года двадцатисемилетняя «посолыпа» пишет П. А. Вяземскому: «Как я ненавижу это суетное, легкомысленное, несправедливое, равнодушное создание, которое называется обществом! Как Адольф (ваш приемыш)[186] прав, когда он говорит, что «обществу нечего нас опасаться: оно так тяготеет над нами, его глухое влияние так могуче, что оно немедленно перерабатывает нас в общую форму».
В своем письме Фикельмон почти точно процитировала соответствующие фразы Бенжамена Констана. Французский подлинник, несомненно, был у нее перед глазами. Однако взгляды Адольфа, которые она полностью разделяет, не были для нее новыми*. Еще в тетради с записями 1822–1825 гг.[187] она, комментируя мысли François de Sales[188] (1567–1622), пишет: «…так быстро и так легко теряется привычка к ней (светской жизни. – Н. Р.), что одно это доказывает уже, насколько гомон большого света, вихрь обязанностей, которые не дают никакого удовлетворения, – насколько они противоречат, по существу, природе человека. Мы нуждаемся, без сомнения, в обществе <…> Но общество могло бы быть таким простым, можно было бы дать имя простым привычкам, кругу подходящих к вам людей; но у нас так сильно тяготение к рабству (несмотря на все, что об этом говорят), что мы его ищем повсюду!»
Так думала юная Долли, и тридцать лет спустя, 22 марта 1851 года уже начинающая стареть Дарья Федоровна (ей 47 лет) пишет сестре почти то же самое, что в свое время Вяземскому:
«Свет, надо сказать, это соединение низостей и моральных ничтожеств, к которому проникаешься глубоким отвращением по мере того как становишься старше. Сама тогда удивляешься всем жертвам, которые еще ему приносишь».
Нет, эти мысли о светском обществе – не случайное настроение и не дань романтической литературе, которую Долли Фикельмон усердно читала.
Мы видели, что графиня Фикельмон разделяла многие мнения, убеждения и предубеждения окружавшей ее великосветской среды, но в ней она все-таки не растворилась, будучи духовно значительным человеком. Со многими светскими людьми ей, вероятно, было тоскливо – по крайней мере, при долгом общении, однако она, несомненно, любила свой уютный петербургский салон, где собирались главным образом те, кого она в самом деле хотела видеть.
И еще одна мысль рождается, когда перечитываешь ее письма и дневники. Была, видимо, у Долли какая-то чисто личная душевная трещина – одним недовольством обществом ее приступы грусти, мне думается, объяснить нельзя…[189]
Но кто же, в конце концов, эта внучка Кутузова, приятельница Пушкина, австрийская подданная, влюбленная в Италию, – русская или иностранка?
Ответить на этот вопрос не очень легко. Мы уже знаем, что, живя долгое время в Италии, Фикельмон забыла русский язык. Приехав в 1829 году в Петербург, посольша, по крайней мере первое время, говорить по-русски не могла. Даже митрополиту Филарету, который, по желанию матери, стал ее духовным наставником, она отвечала по-французски на его русские вопросы и поучения. Друг друга собеседники, очевидно, понимали (запись 15.X.1829). Мы знаем также, что в 1830 году известный литератор О. М. Сомов давал графу и графине уроки русского языка.
На Россию Дарья Федоровна тогда, несомненно, смотрела глазами вдумчивой иностранки. О петербургской публике (не о «простом народе» – его туда не допускали), которую она наблюдала в загородных парках, графиня писала: «У толпы всегда такой вид, точно она развлекается не по собственному желанию, а по приказанию или по обязанности» (29 августа 1882 года). Не нравилось ей и времяпрепровождение русского светского общества. Терпеть не могла столь любимых тогда карт, которые «здесь лишают общество движения и веселья». Огорчала ее пустота светских женщин, «созданий из газа, цветов и лент». Скучными и всегда боящимися казались ей русские девицы: «Похоже на то, что они считают беседу светским грехом, так как в этом отношении строгость у них поучительная, что придает гостиным печальный и совершенно бесцветный оттенок» (21 июля 1832 года)[190].
Добавим от себя: все в николаевском Петербурге иначе, чем в милой сердцу Долли Фикельмон Италии, хотя светской пустоты и там, конечно, было немало.
Есть в дневнике Фикельмон и более глубокие замечания о русском «большом свете» тридцатых годов. Несмотря на свои монархические убеждения и личную близость с царской семьей, графиня и о ней порой отзывается довольно резко. Побывав на одном из царских балов, она пишет о том, что всюду были цветы, но и они казались ей ненастоящими, и все там ненастоящее (31 января 1832 года).
В данном случае согласимся с Долли, – почти не зная России, наблюдательная женщина умела порой видеть то, чего не замечали вполне русские гости царя.
Будучи дипломатически неприкосновенной, она могла безбоязненно записывать в свои петербургские тетради все, что хотела. Но нет в ее дневнике ни слова о том, чего она не могла не знать, – о забивании людей насмерть шпицрутенами, о торговле крепостными, о многих других ужасах николаевской России, которых на Западе все же давно не было. Эти русские дела, видимо, оставались вне круга непосредственных наблюдений Дарьи Федоровны. Ничего она не говорит и о декабристах, хотя была знакома со многими родственниками и друзьями сибирских узников.