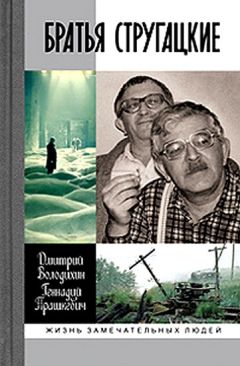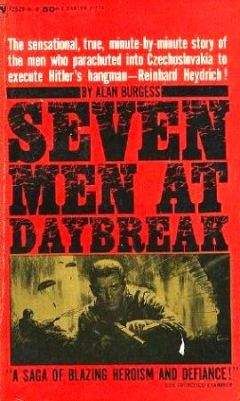«Мегатойтис» (он же «архитойтис») в ранних сюжетных планах повести ассоциируется с «императором», то есть — верховной властью. Головин, увидев спрута, испытал странное чувство: «Чудище в бассейне было невероятно чужим. Ни мы, ни наши собаки не имели с ним ничего общего. Оно было чужое, насквозь чужое. Даже в его запахе не было ничего знакомого, пусть хотя бы и враждебного. Это было нелепо, что оно могло чего-то требовать от нас через разделявшую нас пропасть. А еще более нелепо было давать ему хотя бы незначительную частичку от нашего мира. И вдобавок низко радоваться, что оно приняло дань».
Итак, мещанин — всегда чужак. Даже если этот мещанин выступает в облике «хорошенькой девушки», как та же Марецкая, он все равно — из другого мира. Он не смеет требовать чего-то от интеллигента. А интеллигенту нелепо уступать ему «хотя бы незначительную частичку от нашего мира». Спруты могут быть могущественными и опасными, как опасны агрессивные чужаки-мещане, особенно если злой мещанин получает в свои руки всю мощь верховной власти (император, канцлер… генеральный секретарь).
И если доходит до открытого противостояния, то наш интеллигент имеет право… да что там право! — он обязан уничтожить источник мещанства.
Вот Андрей Головин и убивает Кракена, после того как тот, «беседуя» с человеком, внушил ему мысль: «Мещанство, ограниченность, отсутствие стремлений всегда восторжествуют… все усилия так называемых мыслящих интеллигентных людей в конечном счете служат лишь для мещан».
Интеллигент убивает императора. Какая точная метафора!
И пусть это всего лишь беспозвоночный император-спрут, не важно.
Эзопов язык советской эпохи был внятен для современников. И тут между строк читалось: если надо убить — убей!
Стругацкий-старший четко выразил главную идею повести в письме младшему (11. Х. 1962): «…доведение до необходимости сделать практические выводы из своего мнения в ленивых застольных спорах».
А Борис Натанович сообщает о работе над текстом следующее:
«Вариант повести под названием „Дни Кракена“ писался АН в одиночку в начале 1963 года, был примерно в те же времена рассмотрен обоими соавторами, принят как первый черновик и отложен на неопределенный срок. Работа не пошла. Насколько я помню, нас остановили два соображения. Во-первых, общая и очевидная „непроходимость“: то, что мы собирались писать в повести дальше, не годилось ни для „Молодой гвардии“, ни, тем более, для „Детгиза“, а писать в стол мы тогда не умели — во всяком случае, не были еще готовы. А во-вторых, вещь показалась нам слишком уж „бытовой“, мы побоялись впасть в так называемый „блэпингтонизм-блэпскизм“… Позже мы не раз возвращались к этой повести, но, видимо, время ее прошло окончательно, мы так и не взялись за нее и только беспощадно растаскивали ее по кускам, следуя жестокому принципу литературной целесообразности: „Всё, годное к утилизации, должно быть своевременно утилизировано“».
Судя по переписке между братьями, Аркадий Натанович составил первый план повести еще в мае 1962 года. Идея ему нравилась. Он перебирал подходы к ней, дополнял сюжетные заготовки все новыми деталями. Думал над повестью, по его собственным словам, «денно и нощно». Словом, всерьез увлекся. Но Борис Натанович, очевидно, был прав, говоря о полной «непроходимости» сюжета. Лишь 80-е, застав Стругацких мэтрами советской НФ, позволят им писать в подобной манере. Двумя десятилетиями раньше у них вряд ли бы взяли для печати философскую фантастику, насыщенную аллегориями и сложными рядами символов.
Кроме того, Аркадий Натанович желал разыграть в повести «смачный нетривиальный конфликт между людьми», отвечающий двум условиям. Во-первых, чтобы он «не был возможен нигде, кроме СССР». Во-вторых, «чтобы такой конфликт не был возможен никогда раньше пятьдесят пятого года».
Яснее не скажешь.
Конфликт — получился.
Результат: фрагмент повести и конспект ненаписанных глав увидели свет лишь несколько лет назад.
Как художественное произведение повесть «Стажеры» в значительной степени держится именно на стиле, на «хемингуэевском лаконизме», поскольку ей дана очень рискованная сюжетная конструкция. Стругацкие заставляют любимых героев, известных еще по «Стране багровых туч», осуществить инспекционное путешествие по планетам, астероидам и спутникам Солнечной системы. Каждая остановка — отдельная картинка, растянутая во времени, отдельный самостоятельный сюжет. В отличие от «Возвращения» эту мозаику все-таки скрепляет единая сюжетная константа — мотив путешествия. Оттого повесть становится похожей на записки средневекового паломника или миссионера, на «хождение ко святыням», записанное потом в подробностях.
Каждая «картинка» — предлог для разговора о новом времени и новых людях, его населяющих. Насколько их сознание рассталось с тенями «проклятого прошлого», в чем они, люди торжествующего социализма, отличаются от населения предыдущей эпохи, чего им не хватает. Кроме того, в качестве лейтмотива выступает осуждение мещанства как чего-то противного, чуть ли не противоположного гуманизму, идеалам интеллигенции (о мещанстве в «Стажерах» ведутся целые диспуты!). И то и другое рождает сильный привкус идеологического сочинения. В тоне отзыва Бориса Натановича о «Стажерах» сквозит раздражение: «Странное произведение. Межеумочное. Одно время мы очень любили его и даже им гордились — нам казалось, что это новое слово в фантастике, и в каком-то смысле так оно и было. Но очень скоро мы выросли из него. Многое из того, что казалось нам в самом начале 1960-х очевидным, перестало быть таковым. Очевидным стало противоположное… В „Стажерах“ Стругацкие меняют, а сразу после — ломают свое мировоззрение. Они не захотели стать фанатиками…»
Как уже говорилось, «Стажеры» — последний текст, который можно было бы назвать откровенно «коммунарским». В нем Стругацкие еще пытаются соединить приоритеты, входящие в «символ веры» советской интеллигенции, с научным коммунизмом и нормами реальности, наблюдаемой ими. Потом все это исчезнет, причем довольно быстро. И советизм, и официальный государственный коммунистический идеал частично совсем уйдут из повестей, частично будут заменены чем-то прямо противоположным. «Попытка к бегству» уже поднимает идеал интеллигенции на высоту бесконечно более значительную, нежели «государственный интерес». А всё, что мешает осуществлению этого идеала, так или иначе приводится авторами в близкое соответствие понятию «фашизм».
Но в данном случае речь идет не об идеологической нагрузке «Стажеров».