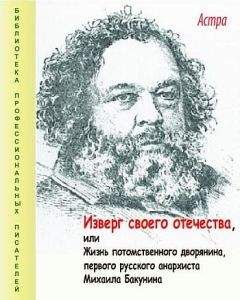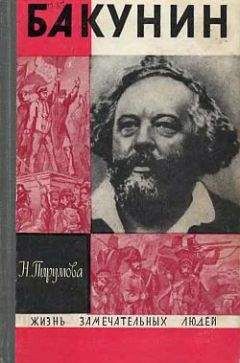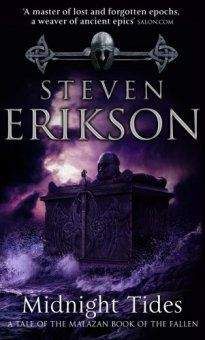Белинский видел своими глазами то, что доселе почитал мечтою. Он видел осуществление своих понятий о женщине. Это были минуты блаженства, когда забывая вполне самого себя, он созерцал и постигал в умилении все совершенство этих чистых высоких созданий. И другие прекрасные дни, когда все собирались в гостиную, толпились около рояля и пели хором. В этих хорах он слышал гимн восторга и блаженства усовершенствованного человечества, и душа его замирала в муках, потому что в его блаженстве было что-то невыносимо тяжелое. Непривычный к блаженству, он боялся своими дикими выходками обратить на себя всеобщее внимание.
Как он завидовал Мишелю!
— Мишель, ты злодей, — он тряс его «за-грудки». — Тебе есть кого любить всеми силами твоей могучей души, у тебя есть золотая связь с жизнью.
Тот горделиво ухмылялся, а Виссарион, пошатываясь, с блаженной улыбкой раскрывал объятия, готовый заключить в них весь мир.
— Люби их — это счастье, блаженство. Я знаю тебе цену, она велика; но им я не знаю цены. Я никого не знаю выше Станкевича — но что он перед ними? Ничто, меньше, в тысячу раз меньше, чем ничто! Да, кто созерцал их, тот не напрасно прожил жизнь!
Бывали у него и другие минуты, тяжкие, больные. Самые лютые из них были, когда Мишель читал с сестрами по-немецки. Целый ад, подлая злоба! Стыдясь самого себя, Виссарион уходил подальше, в сад, в луга. Он даже взялся было за изучение немецкого языка. И оставил. Разве в том дело!
Ближе к осени, в конце августа состоялось освящение церкви. Она была выстроена лет двадцать назад, еще при Любови Петровне по рисункам и чертежам незабвенного Николая Львова. Освящение происходило торжественно, с певчими, с проповедью. После обряда, вечером в саду были накрыты столы, отдельно для мужчин и для женщин. Крестьяне сидели вместе с господами.
Наконец, все разошлись и разъехались. Премухинская молодежь долго сидела на веранде, гуляла по росистой траве. Белинский стоял возле Татьяны. Она словно открылась ему в эту минуту. Эти глаза, темно-голубые, глубокие, как море, этот взгляд, внезапный, молниеносный, долгий как вечность, это лицо кроткое, святое, на котором еще как будто не изгладились следы жарких молений к небу… Сбиваясь, он рассказывал о проделках и пакостях своих литературных недругов, она улыбалась. В обнимку с Сашенькой подошел Мишель.
— Это что, новый способ говорить комплименты, говоря гадости? — вновь ухмыльнулся он, недовольный тем, как внимательно слушала Verioso его Танюша.
Она смутилась. Тысячи игл пронзили Белинского. Да что это за кадетские хамские замашки? Да в обнимку с Сашенькой…
— Ты спроси, спроси его, Танечка, что он думает о женщинах? — не отступался Мишель. — «Мысль не для женщины, ее удел чувство». А, Висяша? А я утверждаю, что женщинам открыта вся полнота истины. Я прав, драгоценные сестры?
— Вы в самом деле столь низкого мнения о женщинах, Виссарион Григорьевич? — шагнула к нему Сашенька.
Виссарион потерялся.
— Право, это… мужские разговоры, Александра Александровна… я не вижу нужды… Мишель пошутил.
Но девушка была непреклонна.
— Так вот в какие границы вы нас заключаете, Виссарион Григорьевич! Почему? Разве мы не свободные существа? Разве мы избавлены от страданий и смерти в этой жизни? Почему же мы должны оставаться в черте, вами для нас очерченной? Только чувство, просветленное мыслью, мирит с жизнью, дает нам спокойствие и делает то легко, что прежде казалось невозможным, невыносимым.
— Браво! — Мишель, качнувшись, обмерил взглядом низкорослого Verioso.
Белинский молчал. Какая девушка! И какая отповедь! Но Мишель… ах, мерзавец!
В сентябре почта принесла письмо от Станкевича и последний номер «Телескопа».
— Ты, Белинский, Ефремов теперь живете вполне, — писал Николай Мишелю с Кавказа. — Прекрасные осенние дни, прогулки, музыка, беседа внизу, беседа наверху, искусство, философия, общее наше будущее — все это вы перебираете в твоей маленькой комнате под навесом табачного дыма. Завидую вам. Ты, Мишель, со своим обыкновенным прямодушием зовешь меня в Прямухино. Нам надобно ездить туда исправляться, сказал я Verioso, но я — я боюсь испортиться. Во мне другой недостаток, противоположный недостатку Белинского — я слишком верю в семейное счастье. И все же… на обратном пути я с удовольствием бы заехал в Прямухино.
От этих слов заалелись щечки Любаши. С письмом в руках она удалилась в свою комнату, чтобы прижимать его к груди и вчитываться в каждую строчку и между строчек, где струилось любовь Станкевича.
— Он помнит! Он приедет!
Книжка «Телескопа» навела дрожь на Белинского. В ней было напечатано «Философическое письмо» Чаадаева. В тот же день он поднялся в Москву. Вместе с ним уехали и друзья.
Александр Герцен отбывал ссылку в далекой Вятке, где с усмешкой составлял развесистую клюкву проектов, сведений и таблиц, полных, для пущей важности, сносок и цитат на иностранных языках, для того, чтобы вятский губернатор Тюфяев мог отчитаться перед столицей, и тем самым исполнить невыполнимое указание высокого начальства. Только Герцен смог справиться с пышным плодом великодержавной бюрократии. Для ссыльного кандидата Московского университета сия нелепость явилась подобно дару небес, поскольку и избавила его от каторжной отупляющей переписки канцелярских бумаг в обществе двух десятков полуграмотных писцов, и доставила возможность работать дома.
«Я спокойно сидел за своим письменным столом в Вятке, — повествует Герцен, — когда почтальон принес мне последнюю книжку „Телескопа“. Надобно жить в ссылке и глуши, чтоб оценить, что значит новая книга. Я, разумеется, бросил все и принялся разрезывать „Телескоп“. Писанные к даме „Философические письма“, без подписи… В подстрочном замечании было сказано, что письма эти писаны русским по-французски, то есть, что это — перевод. Все это скорее предупредило меня против статьи, чем в ее пользу, и я принялся читать „критику“ и „смесь“.
Наконец, дошел черед и до „Письма..“.. Со второй, третьей страницы меня остановил печально-серьезный тон: от каждого слова веяло долгим страданием, уже охлажденным, но еще озлобленным. Этак пишут только люди, долго думавшие, много думавшие и много испытавшие жизнью, а не теорией… Читаю далее, — „Письмо“ растет, оно становится мрачным обвинительным актом против России, протестом личности, которая за все вынесенное хочет высказать часть накопившегося на сердце.
„… Мы так удивительно шествуем во времени, что, по мере движения вперед, пережитое пропадает для нас безвозвратно. Народы — существа нравственные, точно так же, как отдельные личности. Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру. Кто знает тот день, когда мы вновь обретем себя среди человечества и сколько бед испытаем мы до свершения наших судеб?“