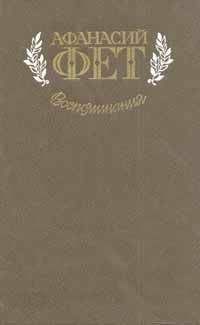— Знаете ли, обратился вдруг ко мне полковник: ятолько что из Сербии, для которой мы сбираем вспомоществование; но я там нигде подобной нищеты не видал.
В подтверждение слов полковника, я сообщил ему, что по скудости урожая, за неимением топлива, по три семьи собрались на зимовку в одну избу.
Л. Толстой писал:
11 января 1877 года.
Дорогой Афанасий Афаннсьевич, повинную голову не секут, не рубят!? я уж так чувствую свою голову повинною перед вами, как только можно. Но право я в Москве нахожусь в условиях невменяемости; нервы расстроены, часы превращаются в минуты, и как нарочно являются те самые люди, которых мне не нужно, чтобы помешать видеть того, кого нужно. На праздниках был у нас Страхов, и вам верно икалось: мы часто поминали вас, и ваши слова, и мысли, и ваши стихи. Последнее «Взвездах» и — я прочел ему из вашего письма, и он пришел в такое же восхищение, как и я. В Русск. Вестнике перечли мы его с женою еще. Это одно из лучших стихотворений, которые я знаю. Со Страховым же я всегда говорю часто про вас, потому что мы родия все трое по душе. Что ваша служба? есть ли надежда на награду? Что Петр Афан.? Нет ли известий? Передайте наш поклон Марье Петровне и Оленьке, не забывайте меня, не сердитесь и любите так же, как мы вас любим.
Ваш Л. Толстой.
5 марта 1877.
Дорогой Афанасий Афанасьевич, давно от вас нет известий, и мне уж чего-то недостает и грустно. Напишите пожалуйста; как здоровье ваше и дух? Посылаю несколько стихотворений {Не привожу стихотворений, не представляющих интереса.} 18-ти летнего юноши. Что вы скажете? Пожалуйста внимательно прочтите и скажите. У нас все слава Богу.
Ваш Л. Толстой.
23 марта 1877.
Вы не поверите, как мне радостно ваше одобрение моего писанья, дорогой Афанасий Афанасьевич, и вообще ваши письма. Вы пишете, что в Русск. Вестнике напечатали чужое стихотворение, а ваше Искушение лежит у них. Такой тупой и мертвой редакции нет другой. Они мне ужасно опротивели не за меня, а за других.
Как в казаки? Каким же чином? И зачем в Белой Церкви? Меня Петр Афан. ужасно интересует.
Голова моя лучше теперь, но насколько она лучше, настолько я больше работаю. Март и начало апреля самые мои рабочие месяцы, и я все продолжаю быть в заблуждении, что то, что я пишу, очень важно, хотя и знаю, что через месяц мне будет совестно это вспоминать. Заметили ли вы, что теперь вдруг вышла линия, что все пишут стихи, очень плохие, но пишут все. Мне штук пять новых поэтов представилось.
Извините за бестолковость и краткость письма. Хотелось только вам написать, чтобы вы помнили, что вас любят и ждут в Ясной Поляне. Наши поклоны вашим.
Л. Толстой.
14 апреля 1877 года.
Последнее письмо ваше, писанное в три приема, слава Богу, не пропало. Я дорожу всяким письмом вашим и особенно таким, как это. Вы не поверите, как меня радует то, что вы приписываете в предпоследнем, как вы говорите, «о сущности божества». Я со всем согласен и многое хотел бы сказать, но в письме нельзя и некогда. Вы в первый раз говорите мне о божестве — Боге.? я давно уже не переставая думаю об этой главной задаче. И не говорите, что нельзя думать;- не только можно, но должно. Во все века лучшие т. е. настоящие люди думали об этом. И если мы не можем также, как они, думать об этом, то мы обязаны найти — как. Читали ли вы: Pensées de Pascal? т. е. недавно на большую голову. Когда, Бог даст, вы приедете ко мне, мы поговорим о многом, и я вам дам эту книгу. Если бы я был свободен от своего романа. которого конец уже набран, и я поправляю корректуры, я бы сейчас по получении вашего письма приехал к вам. Так, я не знаю почему, ваше последнее письмо забрало меня за живое, т. е. дружбу к вам. Ужасно хочется вас видеть.
Поэт мой К…, которому я велел наизусть выучить то, что вы пишете мне о нем, написал тут же вам послание, очень плохое, но просил послать. Боюсь, что он более стихотворец, чем поэт. Но какое милое стихотворение Полонского, оно напечатано в Ниве
Прощайте до свидания, пожалуйста пишите о себе, о своем здоровьи, хоть два слова. Жена кланяется вам и Марье Петровне.
Ваш Л. Толстой.
В середине лета совершенно неожиданно приехал гр. Л. Н. Толстой вместе с гостившим в это время у него Н. Н. Страховым[236], с которым я за год перед тем познакомился в Ясной Поляне. Излишне говорить, до какой степени мы были рады дорогим гостям, столь богатым внутренним содержанием.
Чуткий эстетик по природе, граф так и набросился на фортепьянную игру нашей m-lle Оберлендер[237]. Он садился играть с нею в четыре руки, и таким образом они вместе переиграли чуть ли не всего Бетховена.
— Знаете ли, — говорил мне граф, — что во время нашей юности подобные пианистки разъезжали по Европе и давали концерты. Она всякие ноты читает так же, как вы стихи, находя для каждого звука соответственное выражение.
В августе я стал побаиваться повторения органического расстройства, от которого некогда спасен был благодетельною рукою профессора Новацкого. К этому присоединилась зубная боль Оленьки, так что я решился немедля ехать с нею вдвоем в Москву, где остановился на Покровке в пустом доме Боткиных, проводивших лето на даче в Кунцеве. Так как Оленька по летам своим могла только быть под попечительством, а не под опекой, то я нисколько не препятствовал ее частым посещениям пансиона г-жи Эвениус[238], во главе которого уже года с два тому назад стояла меньшая сестра, заступая место умершей его основательницы.
Накануне обратного отъезда в Степановку Оленька попросила у меня разрешения остаться на несколько дней у г-жи Эвениус, сказавши, что присылать за нею никого ненужно, так как г-жа Эвениус дает ей в провожатые классную даму. Когда я стал укладывать свой небольшой чемодан, Оленька, увидавши довольно большой хлебный нож, сказала: «Дядя, этот нож тебе возить в чемодане неудобно; позволь, я уложу его на дно моего деревянного сундука, где он ничего повредить не может, а между тем никакой беды от того не будет, что я привезу его неделею позже в Степановку».
Так, к общему удивлению домашних, я вернулся в деревню один. Через неделю прибыло письмо Оли с просьбою о продлении пребывания в Москве, — исполненное любезных ласк и извинений. Затем письма стали приходить все более короткие и формальные, из которых я убедился, что усердные руки содержательницы пансиона уже не выпустят неопытную девочку. Роковое письмо не заставило себя ждать: оно уведомило, что Оленька остается в Москве. Конечно, я в тот же день отвечал, что ни опекуном, ни попечителем племянницы быть не желаю и прошу указать личности, которым я могу сдать все ее состояние.