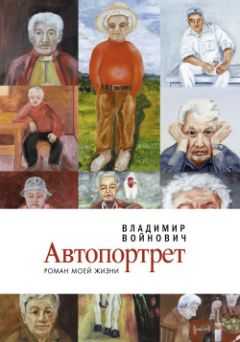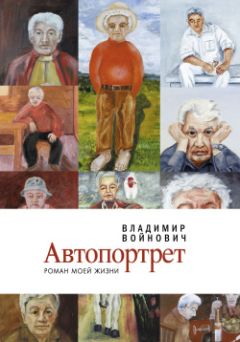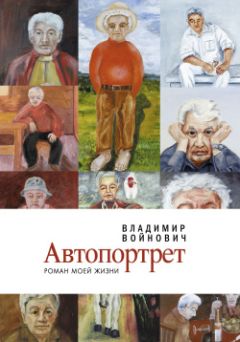Битов и Чухонцев перед эмигрантами
Битов и Чухонцев выступали в русской церкви. На встречу явилось много разного народа. Перед входом в храм толпились эмигранты, слависты, корреспонденты, западные и советские, в том числе и корреспондент «Правды», который брал интервью у Ахмадулиной и Мессерера. Увидев меня, Белла кинулась ко мне и крикнула покинутому интервьюеру: «Вы видите, я обнимаюсь с Войновичем. Можно с ним обниматься?» На что корреспондент, не оценив (или оценив) издевки, милостиво ответил, что теперь, в процессе перестройки, можно. Между прочим, братание (fraternization) запрещено в американской армии, именно оно как раз в описываемое время стало одним из пунктов обвинения охранявшим московское посольство США морским пехотинцам, которые очень глубоко братались с русскими девушками.
Публику пустили, и я сел где-то сзади, рядом с моей издательницей Эллендейей Проффер, женщиной красивой, умной и острой, оставшейся вдовой после смерти Карла. Время от времени она громко комментировала речи выступавших, которые в один голос утверждали все то же — что в СССР больше нет никакой цензуры. При этом Битов плутовал ловко, а Олег весьма неуклюже. Держался надуто, как представитель большой державы, имеющий от нее государственное задание не дать себя втянуть в провокационные разговоры.
— Ну что вам сказать, — сообщил он публике снисходительно. — У нас сейчас нет, вообще нет никаких запретных имен и названий.
— Все врет! — сказала сзади Эллендейя. — Все врет!
До Олега это, конечно, дошло, но он сделал вид, что не слышал, явно при этом смутившись.
— Вот, например, у нас в журнале, — продолжил он, — мы решили печатать Платонова. Мы не спрашивали ни у кого разрешения и вообще думали только о том, с чего начать: с «Котлована» или «Чевенгура».
— Опять врет! — сказала Эллендейя.
Я ее спросил: почему же врет? Наверное, так и было.
— Если даже так было, все равно врет.
Зато Битов всем очень понравился. Высказал мысль, которую через год довез и до Мюнхена, — что с наступлением свободы все сразу опубликовано и больше печатать нечего.
Ему был задан вопрос, всех волновавший: а будут ли печатать в СССР Солженицына? Битов тут же извернулся самым ловким образом.
— Ну, Солженицын — это такое огромное явление, он сам по себе целое государство. А государство с государством как-нибудь договорятся без нас.
И этим трюком сорвал аплодисменты.
Мне было стыдно за выступавших и за аудиторию, которой гости так легко скормили свою мякину.
После этого на улице Олег подошел ко мне и, не глядя в глаза, спросил, как мне понравилось его выступление.
— Ты ждешь честного ответа или какого? — спросил я.
Тут он начал лепетать чтото жалкое. Что никогда не был в Америке, а если будет прямо отвечать на задаваемые вопросы, его сюда больше никогда не пустят. И тогда сюда будут ездить те, кто ездил раньше.
— Ну да, — сказал я ему, — ты, может быть, прав. Если ты не будешь врать, тебя, возможно, не будут сюда пускать, будут пускать старых врунов, но, по мне, пусть лучше врут они, а не ты.
Я думал, он будет возражать, спорить, ругаться, а он еще больше смутился и стал говорить:
— Да, да, ты прав, я на этом могу потерять репутацию.
Не знаю, понятно ли, почему я так болезненно воспринимал подобные встречи. Ну, во-первых, я вообще ненавижу лгунов, Во-вторых, когда врет мой товарищ, он так или иначе приглашает меня в соучастники. Другие люди, зная о наших отношениях, интересуются моим мнением о том, что он говорит. И что — я из солидарности должен врать вместе с ним? И еще одно важное для меня соображение. Эти путешественники даже не понимали, насколько их ложь была направлена прямо против меня лично. Если в России все хорошо и печатают вообще все или все достойное, это значит, что у меня тоже там все в порядке, что меня тоже там печатают или то, что я пишу, как правильно утверждал Залыгин, не достойно того, чтобы быть там напечатанным.
Олег мне сказал, что их перед отъездом инструктировали, как вести себя за границей, советовали вести себя естественно и говорить все, что думают. Но они, предполагая, что начальство ожидает от них правильномыслия, говорят то, что, как им кажется, они, по мнению начальства, должны. Так я записал тогда. И сейчас могу сказать, что, к сожалению, это коснулось и Олега, человека по натуре честного, но временно поддавшегося искушению благами, которых раньше он не имел.
Wach auf, Genosse Kritiker
Роман не принес мне ни больших тиражей, ни крупных гонораров. Хотя в американской печати отзывы были привычно хорошие, вплоть до восторженных. Из отзывов в немецких газетах я запомнил только рецензию некоего Клауса Петера Вальтера. В самой почитаемой немецкой газете «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» он напечатал статью «Schlaf gut Genosse Leser» («Спи спокойно, товарищ читатель»). Не буду говорить о качестве статьи, в которой от начала до конца я сравнивался с боксером ниже среднего веса, вышедшего на заведомо проигрышный бой с тяжеловесом Александром Зиновьевым. Поплясав долго на боксерских аналогиях, критик решил меня свалить в нокаут и нанес следующий словесный удар:
«Он (то есть я. — В.В.) мог вызвать на соревнование чемпиона (Зиновьева. — В.В.), только будучи совершенно ослепленным и переоценивая себя, потому что он вступил на ринг уже фактически проигравшим. Своим «Иваном Чонкиным» Зиновьев создал фигуру, которая заслужила сравнения с бравым солдатом Швейком Ярослава Гашека».
Такой подарок я не мог не принять. Я написал в ответ: «Wach auf, Genosse Kritiker» («Проснись, товарищ критик!»). Проснись и запомни: литературной критикой (так же, как и судейством на ринге) нельзя заниматься без определенных познаний в этом предмете. Проснись и запомни, что «Гамлета» написал не Шиллер, «Войну и мир» написал не Достоевский, «Волшебную гору» написал не Бальзак, а «Ивана Чонкина» написал не Александр Зиновьев, а я, Владимир Войнович.
19 марта 1988 г., Штокдорф».
Язвительные отклики направили в газету члены Баварской академии Хорст Бинек, Барбара фон Вульфен и ктото еще. Ни один из этих откликов не был напечатан. Мое мнение об ответственности немецкой прессы и точности излагаемых ею фактов после череды печальных разочарований осталось не слишком высоким.
С Катей Краусовой и Эриком Абрахамом я познакомился в Лондоне у моего приятеля Игоря Голомштока. Судя по сопоставляемым датам, это случилось не позже начала 1987 года. Оказалось, Эрик и есть тот загадочный человек, который из года в год покупает право option на «Чонкина» и приносит мне небольшой постоянный доход. Не зная его лично, я представлял себе английского чудака, который не знает, куда девать деньги. Оказалось, у чудака вполне земные планы. Сначала о происхождении пары. Катя — словачка, точнее словацкая еврейка, дочь, если я правильно помню, бывших до 1968 года партийных деятелей. Эрик — сын южноафриканского адмирала и тоже еврейского происхождения. Оба работали на Бибиси, делали фильмы для компании, но затем решили заняться этим же самостоятельно. «Чонкина» открыла Катя. Убедила Эрика, что это стоящая вещь. Эрик, прочтя книгу, с ней согласился и считал, что Чонкин — универсальный характер, понятный всем. Потому и взялся за дело. Без реальных денег. Начал с поиска режиссера и актеров на главные роли.