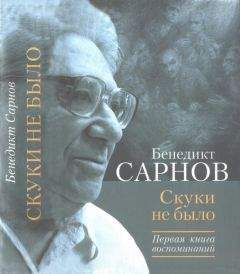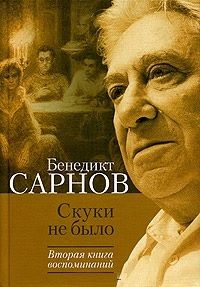Когда Гена рассказал мне об этом, я, естественно, посмеялся над тупостью и невежеством советских следователей, принявших стихи, написанные великим англичанином четыреста лет тому назад, за сочинение московского школьника.
Но Гена пожал плечами и сказал:
— В сущности, они были правы.
Да, конечно, они были правы. Ведь его — как и меня — эти строки поразили именно тем, что они совпадали с тем, что видели мы вокруг — не в далекой шекспировской Англии, а в родной нашей советской, как это тогда говорилось, действительности.
А только что я купил — и прочел — замечательную книгу. Называется она — «Я все сбиваюсь на литературу…». Автор — Юлий Даниэль. Под заглавием — поясняющий подзаголовок: «Письма из заключения». И состоит эта книга действительно из писем, которые знаменитый диссидент 60-х годов писал родным и близким из лагеря строгого режима, где он отсидел согласно приговору — от звонка до звонка — ровным счетом пять лет.
Юлика я хорошо знал. Но прочитав эту огромную (в ней около девятисот страниц) книгу, я словно познакомился с ним заново. Книга эта открыла мне (бумага ведь ничего не может утаить), что Юлик был не просто славным и добрым парнем, каким я его знал. Он был — звучит высокопарно, но других слов не нахожу, — человеком высокой души. Как плохо, — казнил я себя, читая эти письма, — мы знаем людей, живущих бок о бок с нами.
Но это — совсем другая, особая тема. И к ней я наверняка еще не раз буду возвращаться.
А сейчас я коснулся ее лишь для того, чтобы привести небольшой отрывок из одного Юлькиного письма:
Когда я впервые (летом 66-го) попал в «угловой домик»[1], у меня там оказался сосед. Он стал расспрашивать меня о моей профессии, разговор перешел на стихи вообще, и он сказал, что читал одну книгу (название не помнит) какого-то заграничного писателя (имени не помнит), о музыканте, который бежал из своей страны в чужую (откуда? куда? — забыл), и что там в середине книги, на чистой странице, между частями («Как это называется?» — «Эпиграф». — «Во-во») был «стих». И он стал читать наизусть: «Зову я смерть…» — и до конца. Книга, которую он читал, — «Изгнание» Фейхтвангера.
История — согласитесь! — замечательная.
Но тут возникает такой интересный вопрос. А как он — Юлик Даниэль — все-таки догадался, что книга, которую читал тот его сосед по «угловому домику», — «Изгнание» Фейхтвангера?
А очень просто!
Сам, наверное, тоже в свое время сделал стойку на той же странице того же романа.
Вернусь, однако, к себе и к Гене Файбусовичу, который сказал, что чекисты, инкриминировавшие ему 66-й сонет как явную антисоветчину, в сущности, были правы.
И в самом деле: кому, как не злостным антисоветчикам, жизнь «в нашей юной прекрасной стране» могла представляться такой, какой она была изображена в этом старом шекспировском сонете?
Так-то оно так.
И тем не менее, став уже вполне откровенными и даже злостными «антисоветчиками» (даже не уверен, должен ли я обрамлять это слово ироническими кавычками), мы продолжали жить в Стране Гайдара.
9
Вот как Гена Файбусович (ставший уже Борисом Хазановым) рассказывает, каковы были владеющие им мысли и чувства в те времена, когда он решил вдруг переписать в свою тетрадь поразившие его строки шестьдесят шестого шекспировского сонета:
Я жил чудной, магической жизнью подростка, которую я не в силах сейчас описать. Глухое татарское село, больница, где работала моя мать, с общим корпусом, как две капли воды похожим на флигель, где находилась палата номер шесть, холмы, поросшие лесом, река, сугробы, сани, звон почтового колокольчика, милиционер в форменной шинели и лаптях, деревенский базар, все впечатления никогда не виданной мною «почвы» перемешались в моей душе с образами книг, с «Разбойниками» и «Заговором Фиеско», с Фаустом, в котором больше всего меня поразили не приключения с Маргаритой, а таинственная обстановка средневековой кельи, знак Макрокосма и духи, с Герценом, со стихами Блока… В то же время совершилось во мне то, что можно было бы назвать «кризисом веры».
Кризис заключался в том, что я перестал верить в советскую власть… Точнее, я перестал верить в то, чему учили, что говорили о политике, о революции и социалистическом строе. Например, рассказывалось о том, что в 1940 году прибалтийские республики добровольно вошли в состав СССР, а я в школе на перемене в яростном споре доказывал кому-то из одноклассников, что мы просто-напросто захватили Литву, Латвию и Эстонию, воспользовавшись их беззащитностью. Рассказывалось о счастливой колхозной деревне, а я видел, что люди не могут говорить о колхозе без ненависти и насмешки… Каждый день я открывал что-нибудь новое; каждый день падал какой-нибудь очередной глиняный идол. Так повалились одна за другой «первая в мире страна», «власть трудящихся», «дружба народов», «закон, по которому все мы равны»; рухнул, разбившись вдребезги, и сам великий вождь и учитель, и только Ленин все еще оставался невредим, точно был вырублен из прочного известняка, а не слеплен, как все прочие, из алебастра… Как и подобает мыслящему человеку, я вел дневник, в котором начертал, когда мне было 16 лет, мысль, казавшуюся мне необыкновенно оригинальной, о том, что «у нас здесь, в СССР, — фашизм!». Я рассуждал о том, что если бы Ленин был жив, то был бы наверняка объявлен врагом народа и расстрелян, вроде того как у Достоевского Великий инквизитор собирается сжечь Христа, действуя от его же имени.
Я был в то время, пожалуй, инфантильнее Гены. Во всяком случае, «Легенду о Великом инквизиторе» Достоевского тогда еще не читал, поэтому таких сложных ассоциаций у меня не возникало. Но мысль о фашистском перевороте, выскажи ее кто-нибудь при мне, вряд ли меня шокировала бы, хотя сформулировать эту мысль так прямо я бы, наверно, не осмелился. (Даже наедине с собой, а не то что в дневнике, который мог попасть и в чужие руки.) Слово «переворот» в голове мелькало. Но вместо слова «фашистский» для обозначения того же понятия я пользовался другими словами из тогдашнего политического жаргона: «перерождение», «термидор».
Гораздо дальше, чем я, продвинулся Гена и в некоторых других своих открытиях. «Первая в мире страна», «Власть трудящихся» — все эти, как он говорит, глиняные идолы в моем сознании еще не рухнули, не рассыпались в прах. Как-никак, думал я, у нас все национализировано, заводы и фабрики принадлежат народу, а не капиталистам… Какие-то иллюзии сохранялись и насчет Литвы, Латвии и Эстонии (об этом я потом еще расскажу).
Да, Гена в свои шестнадцать лет был, безусловно, умнее меня.
Но даже и он этот свой «кризис веры», как явствует из приведенного мною отрывка, осознавал, осмыслял, не выходя за пределы «гайдаровской» системы мироздания. Просто у него вся эта «гайдаровская» вселенная оказалась перевернутой, поставленной с ног на голову.
В том гайдаровском мире, как уже было сказано, «другие песни спели нам, другие сказки рассказали». Эти песни, естественно, казались нам самыми лучшими песнями в мире:
Это была хорошая песня. Это была песня о заводах, которые восстали, об отрядах, которые, шагая в битву, смыкались все крепче и крепче, и о героях-товарищах, которые томились в тюрьмах и мучились в холодных застенках.
«А много нашего советского народа вырастает», — прислушиваясь к песне, подумала Натка.
Песня эта, которую растроганно слушает героиня гайдаровской «Военной тайны» комсомолка Натка, была из числа самых наших любимых. И самыми любимыми, вызывавшими даже легкий озноб, мороз по коже (а иногда даже и комок какой-то подступал к горлу), были в ней такие строки:
Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных,
Мы с вами, вы с нами, хоть нет вас в колоннах!
Так вот, тот кризис (даже не кризис, а крах) веры, о котором рассказал Гена в своем, процитированном мною, автобиографическом наброске, эту песню не отменял. Товарищи наши, как и в той песне, сидели в «тюрьмах, в застенках холодных». А то обстоятельство, что это были не германские и не итальянские тюрьмы, где тюремщиками были фашисты, а наша родная Лубянка, сути дела совершенно не меняло, поскольку «в стране произошел фашистский переворот».
Но это относится к содержанию, к смыслу той песни (точнее, к прямому смыслу припомнившихся мною двух ее строк). А ведь помимо смысла, помимо «текста слов» было в этих любимых наших песнях еще и что-то другое, заставлявшее вздрагивать наши сердца. Мелодия? Да, конечно, и мелодия тоже. Но и не только мелодия. Что-то еще, неуловимое, трудно определимое. Быть может, воздух того времени, когда Страна, в которой мы жили, еще не успела стать планетой без атмосферы.
В романе Василия Аксенова «Остров Крым» есть одна замечательная, на первый взгляд не слишком существенная, даже совсем не существенная, а на самом деле очень многозначительная подробность. Отец главного героя романа Арсений Лучников-старший, «один из немногих оставшихся участников Ледяного Похода», а ныне — один из самых влиятельных людей на «острове», миллионер-коннозаводчик, которому сулят даже должность Председателя Временной Думы, то есть практически крымского президента, «лет десять назад, когда бурно разрослись в Восточном Крыму его конные заводы», выстроил себе прямо под скальными стенами Пилы-Горы роскошную виллу. Не виллу даже, а гигантскую резиденцию. И назвал ее — «Каховка». Эту странную причуду старика автор объясняет так: