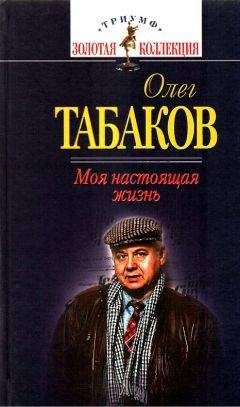Заведующая костюмерным цехом Юдифь Матвеевна, человек без возраста, хотя и была достаточно въедлива, проявляла беспредельную доброту по отношению к нам, варварам и халдеям. Мы беспрерывно теряли детали, выдаваемые нам для исполнения драматических отрывков, не вовремя приносили рапиры и превращали спортивные штаны в половые тряпки. Многие и многие проблемы, решение которых могло приобрести характер вполне трагический, поскольку возмещать нанесенный нами урон государственному учреждению мы не могли, заканчивались вполне мирно только благодаря ей.
Вера Юлиановна Кацнельсон, заведующая кабинетом марксизма-ленинизма была женщиной суровой лицом, даже немножко мрачной, но сердцем необыкновенно доброй, а душой — расположенной к студентам. Наши шутки в ее адрес были следующими:
Кто там ходит без кальсон?
Это — Вера Кацнельсон!
Почему, собственно, без кальсон — я не знаю. Но думаю, что наше воображение, при явном отсутствии поэтического таланта, ничего другого, более оригинального и изящного, из своих словарных запасов выдать было не в состоянии. Поэтические возможности студентов были, вообще, весьма ограничены. Даже происходивший из писательской среды Михаил Михайлович Козаков написал на меня вот такую эпиграмму:
Много видел мудаков,
Но таких, как Табаков… —
и это все, что мог сочинить «писательский сын». Что же говорить обо всех остальных, которые были много плоше, чьи головы рождали несовершенное стихоплетение про кальсоны или, скажем, другой, не менее пугающий бред на музыку известной песни: «Враги сожгли родную Мха-а-ату…» Ну, и так далее.
Школа-студия была частью МХАТа, и по отношению к «небожителям» от студентов требовалось довольно подобострастное поведение. Столкнешься с профессором два раза за день — два раза иди здороваться. Увидишь издали в третий раз — вновь беги проявлять почтение. И так до бесконечности. В этом, возможно, и присутствовал элемент уважения — все-таки любимые артисты недосягаемого размера, но когда преклонение поощряется принимающей стороной как должное — знаете, что из этого получается?
Сейчас, смею утверждать, все это подчеркнутое лизоблюдство выведено из Школы-студии, как племя тараканов. Да и сама эпоха, конечно, стала иной — по коридорам нашего учебного заведения ходит «непоротое поколение» — «личинки свободного человека», не обремененные необходимостью ханжества и не знающие подобострастия.
Но середина пятидесятых — то еще было времечко. Даже «оттепель» отнюдь не была идиллией. Время, ломающее человека. В Школе-студии ощущались элементы бурсы, армии, где все стоят по ранжиру, где ты один среди прочих и где требуется унификация чувств и поведения. Каждый должен знать свое место.
Никакое неформальное общение между студентами и корифеями МХАТа было невозможно. Немногие сумели в такой атмосфере отстоять автономию своей личности, а самых ярых бунтарей запросто отчисляли. Как Петра Фоменко — он-то настоящей оторвой был.
Со «стариками» мы, главным образом, сталкивались в столовой (где сейчас находится учебный театр). Раскрыв рты, смотрели на всенародных кумиров, когда они в перерыве между репетициями приходили принять на грудь что-нибудь существенное. Чаще всего они скрывались в маленькой каморке у директора столовой с абхазской фамилией Агрба — женщины очень маленьких размеров и, как мне кажется, в парике (что вызывало в то время интерес).
Иногда «старики» садились за столик рядом с каморкой. Тогда мы могли наблюдать, как, например, Всеволод Белокуров добавляет в свою порцию солянки две порции гречневой каши. Или что Борис Николаевич Ливанов заедает водочку ромштексом или чем-нибудь подобным. Почему-то такие вещи запоминались. Там же появлялись Массальский, Блинников.
О «стариках» МХАТа в студенческой среде можно было услышать довольно пестрые истории. Рассказывали, как они веселились.
«Брали» купе на четверых в «Красной стреле» Массальский, Кторов, Грибов и «ехали» под звон бокалов до Ленинграда. На самом деле никуда они не ехали, а играли в то, что они едут, объявляли остановки, киряли на станциях и «двигались» дальше. Или в Сандунах занимались «рыбной ловлей»: бросали в бассейн банку килек, которых потом вылавливали себе на закуску.
Иногда их возлияния и закусывания производились в кафе «Артистическое», напротив МХАТа, куда вход был открыт и нам. Там подавали блинчики с мясом, сосиски с горошком. В «Артистическом» сидели завсегдатаи, среди которых особенно выделялся Сашка Асаркан, недавно вернувшийся из ГУЛАГа в полном отсутствии присутствия зубов. Так, торчало во рту что-то темное… Острый ум этого человека удачно сочетался с его злым языком.
Ольга Александровна Серова-Хортик.
Время начала «Современника» 58-й год.
Популярностью у студентов также пользовалась и сосисочная, располагавшаяся между книжным магазином и фотографией. Еще была пельменная — сейчас это помещение первого этажа Школы-студии арендует Гута-банк.
Поворотным в моей судьбе стал второй курс. По двум причинам. Во-первых, я стал нащупывать в себе пути к ремеслу, возникло «я могу». А во-вторых — и это главное — я попал в семью Серовых.
Только сейчас, спустя многие годы, могу сформулировать, сколь важным для меня было это знакомство. Кто я был? Достаточно ординарный юноша, впрочем, начитанный и, наверное, не без способностей в избранной профессии. Если же говорить о жизненной философии — стопроцентный Молчалин. Я точно знал, что можно сметь в суждении иметь, а что нельзя. А от общения с новыми для меня людьми я постепенно начал приобретать человеческие черты, изживая свою уступчивость. Попади я в другой круг, в другую семью — и моя судьба наверняка сложилась бы иначе.
На моем курсе училась Сусанна Серова. Влюбился я в нее сразу. Но она была замужем. Ее муж, Дмитрий Михайлович Серов, находился в это время в Китае и учил пианистическому искусству наших китайских братьев. Платоническое увлечение сохранялось долго и способствовало, как и любая нереализованная страсть, активизации творческих процессов — влюбленный человек на многое способен.
Через Сусанну я познакомился с двоюродной сестрой ее мужа — Ольгой Александровной Хортик, матерью которой была старшая дочь великого русского художника Валентина Александровича Серова. Даже для «страны добрых людей» — России Ольга Александровна была человек диковинный. От многих ее отличало удивительное доброжелательство по отношению к другим людям. Редко мне доводилось встречать человека так неназойливо, но настойчиво отстаивающего свою потребность быть интеллигентным. В значительной степени содержанием жизни Ольги Александровны было устройство быта и облегчение жизни близких. Все в семье, даже четырех летняя Катя, дочь Сусанны Павловны, называли ее Олечкой.