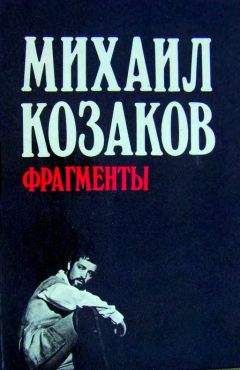Когда будет премьера «Иркутской истории», на поклоны не выйдет. Он — в больнице. Я буду знать о нем по слухам: очень постарел, не узнает людей, если приходит в театр, путает актеров. Услышу ужасные слова — склероз, маразм.
«Живьем» я увидел его случайно один, и последний раз на улице, — в сопровождении Е. И. Зотовой он шел, с трудом перебирая ногами, от машины до директорского служебного входа. Машина остановилась у самого подъезда. Боже, как долог был этот путь…
Какой ефремовский спектакль положил начало «Современнику»? Принято считать, что «Вечно живые», которыми открылась студия молодых актеров, о чем и извещала сине-белая афиша, приглашающая зрителей в филиал МХАТа. Формально так. Но трамплином послужила все-таки пьеса «В добрый час». А начало «Современнику» и его эстетике было положено в ЦДТ, где в одном спектакле, в единой точке скрестились три линии: Эфрос — Розов — Ефремов.
Ефремов сыграл в этой пьесе у Эфроса и почти одновременно ставил ее на дипломном курсе, где учились Г. Волчек и И. Кваша, двое из основателей будущего театра. Тогда-то в недрах школы-студии из их первых успехов, разговоров, дружбы, выпивок наконец родилась идея своего «дела». Затем начались знаменитые ночные репетиции «Вечно живых» с привлечением самых разных артистов московских театров: актеров МХАТа М. Зимина, Л. Губанова, Л. Харитонова, Л. Толмачевой — тогда артистки театра Моссовета, ЦДТ был представлен Печниковым, Елисеевой, ЦТСА — Николаем Пастуховым, здесь же были студенты — Табаков, Сергачев и другие. Репетиции шли в той же школе-студии, шли, как я уже сказал, по ночам, так как это было единственное общее свободное время — днем все служили в своих театрах. Ко дню премьеры, еще не в филиале МХАТа, а в большом зале школы-студии, актеры были на пределе. Их, шутя, называли «еле живыми».
Помню первый спектакль. Занавес открылся в полночь, но зал был полон. Кого там только не было: режиссеры, актеры, писатели, критики. И понятно. «За последние пятнадцать лет в Москве не возникло ни одного молодого студийного организма. Это преступно нерасчетливо», — писал Алексей Арбузов. Многие с ним соглашались. И вот наконец…
Премьера «Вечно живых» описана неоднократно. Ждали новое, а увидели «старое». Спектакль отличала приверженность мхатовской школе Станиславского и Немировича-Данченко, но такая, какой понимали ее Ефремов и его актеры. Чем же тогда волновал спектакль? В понимании этого сходятся все серьезные критики, писавшие о нем, впоследствии не один раз возобновлявшемся за двадцать с лишним лет существования «Современника».
В «Вечно живых» студийцы нащупывали пульс и угадывали философию времени, переданную в точных бытовых интонациях. Поэтому я предлагаю здесь и далее употреблять по отношению к «Современнику» понятие «неореализм», которое следует помножить на другое, на «десталинизацию», — тогда мы можем получить некую формулу его успеха и заодно понять причины грядущего распада.
На одном из заседаний совета театра и его труппы Ефремовым была предложена дискуссия об эстетической программе. После того как в течение нескольких суток ломались копья и дискутанты охрипли настолько, что вечерний спектакль был под угрозой срыва, дискуссия зашла в тупик, который следовало бы назвать «тупик имени метода Станиславского». И как ни жаждал Олег Николаевич своей программы, сформулированной и непременно записанной, я при поддержке многих товарищей доказал, что таковую писать бессмысленно.
«Современник» возник в полемике с практикой современного нам МХАТа, но ничего принципиально нового записать в «Программу» мы не могли. Да это было и не нужно. Наше «новое» состояло в восприятии ритма жизни, проблем, которые она перед нами ставила, в том, что мы, по счастью, были живыми людьми, и это определяло манеру игры и иное по сравнению с МХАТом качество сценической правды, которое я условно и называю «неореализм», не претендуя на искусствоведческие аналогии, скажем, с неореализмом итальянского кино. А обвиняли нас в «шептальном реализме», в том, что мы «играем под себя», что «нет крупности» — ну, и тому подобное.
Вообще обвинений было много. Даже угроз. Существовали мы на птичьих правах. Хотя поначалу все шло, в общем, успешно, и тот же МХАТ нам помогал. Сошлюсь на статью И. Соловьевой «Театр, который откроется завтра».
«…Оправдается ли оптимистический заголовок и откроется ли впрямь новый театр? Да, по всей вероятности, откроется. Руководство Художественного театра пришло к решению не только благородному, но и умному. Оно приняло на себя обязанность опекуна студии; МХАТ предоставил ей жилплощадь — репетиционные помещения, сцену; МХАТ финансирует постановки и оплачивает труд молодых актеров, которые получили таким образом возможность уйти из театров, где они работали до этого, и сполна отдаться своему творческому предприятию. И в то же время МХАТ предоставляет студийцам художественную самостоятельность, оставляя за ними право самим комплектовать труппу, готовить спектакли и строить репертуар. МХАТ сам взялся уберечь начатое Олегом Ефремовым и его товарищами дело от растворения в повседневном потоке творческой практики Художественного театра. В то же время можно и не сомневаться, что творческие советы замечательных мастеров Художественного театра окажут немалую пользу молодым студийцам…»
Поначалу так оно и было. Вторую премьеру — «В поисках радости» — я еще видел на сцене филиала МХАТа. Но после третьей, «Никто» По пьесе Эдуардо де Филиппо в постановке Эфроса, в благородном семействе разыгрался скандал. И «Вечно живые», и «В поисках радости» ни по форме, ни по содержанию раздражения у опекунов пока не вызывали; когда же на святых подмостках появились «модерновые» декорации Левки Збарского, а по МХАТу разнесся слух, что этот то ли Феликс, то ли Лев — художник-абстракционист, послышались голоса недовольства.
По афише Феликс, а в жизни Лев, Збарский заслужил кличку абстракциониста тем, как он расписывал задник сцены. Ему понадобились цветовые пятна. Для скорости дела, а может быть, для эпатажа, к которому Феликс Лев Эрих Мария Збарский, как мы его называли, всегда был склонен, он обулся в старые ботинки, налил в тазы разных красок, расстелил задник по полу, а потом влезал в нужный таз и прыгал по заднику, оставляя следы краски, чем и привел в ужас декораторов мхатовских мастерских, привыкших к тому, чтобы каждый листик тщательно прописывался на фонах задника.
Поползли слухи о «левачестве» подопечных. Шел 1958 год, и к условному оформлению МХАТ далеко не был готов. А тут еще пьеска сомнительная. Второй акт на том свете происходит. Финал вообще безысходный. Не устроило опекунов многое в режиссуре и в игре артистов. Не могли смириться с тем, например, что Олег Ефремов, играющий роль простолюдина Винченцо, позволял себе — на сцене МХАТа! — сидеть в трусах и мять бумажку перед тем, как пойти в сортир…