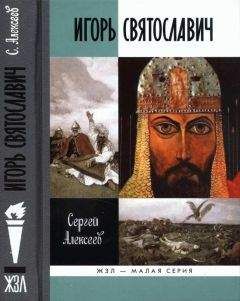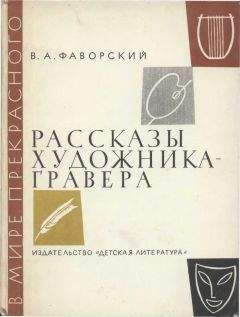Когда изменил ему слух и когда отключились глаза и сознание, Касьян не помнил и проснулся уже другим, отрешенным, с чувством какой-то ровной и облегчающей скорби, делавшей его нездешним, отошедшим куда-то, будто и на самом деле весь этот мир жил уже без него, а он, еще в нем присутствуя, все еще видя и слыша его, был вроде бы уже ничему не причастен. Лежа в санях, он отстраненно, какими-то чужими глазами глядел на залетавших касаток, уже не будивших в нем никакого чувства, кроме ненужности их суеты, и даже плач Митюньки, на который он прежде непременно откликнулся бы внутренней болью и состраданием, тотчас вскочил бы, поспешил узнать причину и подхватил бы на руки,- даже этот плач его любимца доходил до него, как из прошлого, в которое он уже не мог вступить и вмешаться.
Его настоящим была теперь дорога, та, завтрашняя, с котомкой за плечами, о которой он все еще старался не думать, но острое чувство которой, пришедшее к нему уже во сне, что-то оборвавшее и переиначившее в нем, сонном, заполнило и подчинило себе все его существо.
И он, слушая это прошлое своего двора, мысленно уже шагая по дороге, узнавал и не узнавал голос Натахи, объявившейся на сенечном крыльце:
- Ты чего ревешъ-то? Глянь-косъ, чумазый какой! Погоди, дай сюда нос... Ревешь-то чего? Митюнька, икая, пожаловался:
- Да-а... Селезка сум... сумку не дает...
- Какую такую сумку?
- Па... па-а-пкину.
-- Ах, он нехороший какой! Мы ему зададим. Сережа!
Сергунок, где-то затаясь, не отзывался.
- Сере-ежа!
- Мам, он за амбалом,- подсказал Митюнька.
- Ты чего ж прячешься? Не играешь с Митей?
- А чего он пыль в сумку насыпает,- отозвался Сергунок.- Я говорю, не смей сыпать, папке с ней на войну итить. А он, дурной, сыпит.
- Слушай, Сережа,- нетерпеливо перебила Натаха.- Ты знаешь, где дядя Никифор живет?
- Знаю. В Ситном он.
- Ага, в Ситном. А как туда идти - знаешь?
- Чего ж не знать. Сколь с папкой бывали.
- Ну дак как же туда?
- А мимо конторы...
- Ну, мимо конторы.
- А опосля лесок пройтить...
- Верно, лесок.
- А татя лугом - и вот оно, Ситное.
- Слушай, сынка, сбегал бы ты к дяде Никифору, а?
- Один?
- Ну дак больше некому. Скажи, пусть к нам с тетей Катей приходят. Мол, папка на войну уходит. Пусть седни и придут. Запомнил? Мол, на войну...
- Ага.
- Не заплутаешься? - беспокоилась Натаха.
- А то!
- Оттуда с ними придешь.
- Ладно. Только можно я с папкиной сумкой?
- Не выдумывай!
- Ну, мам!
- Да на что тебе, сумка-то?
- А так... По нашей деревне пройду.
- Нешто ты побирушка - с сумкой-то ходить?
- Прямо! Она ж солдатская.
- Ох ты горе мое - солдатская! Еще наносишься. Ее вон и укладывать пора. Папка хватится, а сумки не будет.
- А я швыдко.
- Ладно уж, бежи. Только давай я покороче ее подвяжу. Да хлебца с яичком положу. Бежать не близко.
- А я? - опять захныкал Митюнька.
- Нет, Митя, нет, маленький. Это ж вон как далеко. Не дойдешь ты.
- Дойду-у...
- Лучше я тебе куриную лапку дам. Хочешь лапку?
- Не-е! Не хоцю лапку. Хоцю папкину сумку-у...
- Ну, беда с вами. То ли с медом она, сумка-то? С горем, а не с медом... Вот Сережа сбегает, а тогда и ты поносишь. Папка тебе и ремень свой даст поносить. И картуз. Во как славно-то будет! Обрядится наш Митрий в ремень да в картуз - экий герой!
- Ну, мам, я побег! - готовно выкрикнул Сергунок.- Я - скоком!
-- Стой же ты, дай хлебца-то положу.
Спустя время хлопнула калитка, и Касьян слышал, как по-за плетнем дробно застучали Сeргунковы пятки
- Ох ты, горюшко,- передохнула Натаха.- Все-то вам игра да потеха.
Вот уже и без него живут, опять как-то сторонне подумал Касьян, будто поглядывал за своими из иного мира. Теперь достанется Сергунку: дров насеки, по воду сходи, корову пригони, за сеном слазь, в магазин сбегай... А там картошку копать. Кому ж копать, как не ему. Матери не в пору, а бабке невмочь. Ему бы сапоги хорошие б в осень, по работе и обувка должна бы... Эх, ничего не сделано, кругом неуправа...
Касьян встал, натянул штаны, ступил в галоши и, первым делом хватившись курева, вспомнил, что у него нет ни граммушки. Лаз на полати, где висел в пуках табак, шел из сеней, и он направился в избу. Во дворе уже не висело ни белья, ни веревок, но в кухне было по-прежнему ералашно, как всегда перед большой стряпней. Печь уже пылала, роняя красноватые пляшущие блики на сутемные стены, лари и кухонную утварь. В глубине горницы, невидимая из сеней, опять взялась грохотать рубелем Натаха, что-то наговаривая Митюньке.
Касьян задержался в дверях, глядя, как мать, засучив рукава под самые под мышки, обнажив иссохшие, сквозившие синевой руки, низко повязанная платком, тискала кулаками тесто, и ее острые, шишковатые локти ходко мелькали по обе стороны узкой, сутуло выпиравшей спины, обтянутой посконной землисто-серой кофтой. Время от времени она заморенно выпрямлялась, но, так до конца и не выпрямившись согбенной спиной, поочередно снимала с кистей, как рукавицы, белые шматы теста, шлепала ими в дежу, оскребала о край ладони и, подцепив деревянный корец, подсыпала муки в медленно заплывавшие дыры, оставленные ее кулаками. Касьян давно не видел мать за хлебом, уже непосильна стала ей эта нелегкая справа - и обхаживать саму дежу, и тягать против себя пятнадцатифунтовые колоба, чтобы потом ссадить их с деревянной лопаты в огнедышащей глубине печи,- все это непроворотное дело она передоверила невестке. Но нынче и Натахе было такое не по плечу, и вот, оказывается, мать, переступив через свои немочи, снова стала к загнетке. Ночью она, разломленная в пояснице и во всех натруженных и намаянных суставах, будет тихо стонать в своем душном запечье, тщетно приноравливаться кострецами к немилосердному ложу, которое уже ничем нельзя умягчить, будет кое-как перемогать до света растревоженную хворь, вздыхать упавшей грудью и молить бога прибрать ее поскорее. Но сейчас, понуждаемая неудержимо назревавшим тестом, пылающей печью, которые теперь уже не дадут ни роздыха, ни передышки, распалясь работой, разгоряченно, как в прежние свои годы, укрощала и техкала трехпудовую поставу, не думая, что будет с ней потом. И впалые ее щеки, иссеченные морщинами, пробил таившийся где-то прежде слабый румянец, а глаза заголубели, очистились от застаревшей наволочи, когда она обернулась к Касьяну, почуяв его присутствие. Сколько помнит себя Касьян, выпечка хлеба всегда была в их доме непреходящим событием, особенно перед сезонной страдой, а пуще - перед каким-нибудь праздником, когда затевался большой хлеб, сопровождаемый пирогами и ситниками. Встрепанная, выпачканная сажей, с уроненными меж колен вздувшимися руками, мать потом безвольно сидела на лавке рядом с бугрившимися на столе ковригами, укрытыми влажным рядном, источавшим парок и крепкий ржаной дух отдыхающего хлеба.