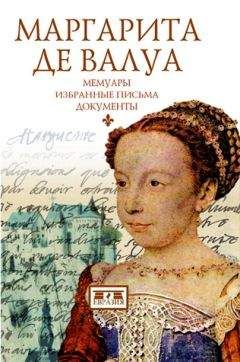Туда – обратно, туда – обратно.
Как и где отмывал я с себя грязь, не помню.
Помню, как я уже на берегу, мои люди одеты, шесть телег с катушками кабеля, телефонными аппаратами, рациями, гранатами, патронами, автоматами.
Мы подъезжаем к городу, и на дороге счастливые мужики, женщины, бабки, и у всех в руках бутылки с вином, стаканы и куски сала, и никак невозможно отказаться от угощения. Целуемся, пьем и постепенно пьянеем.
Откуда итальянские вина и немецкие сигареты? Ими нас заваливают. Это население набрасывается на пакгаузы, расположенные вдоль железнодорожных путей. А у нас фураж на исходе, овса и сена нет, нечем лошадей кормить.
Приказываю освободить одну телегу, завожу взвод во двор, вернее, в сад одного из двухэтажных домов на Петровской улице. На пустой телеге я, ординарец Гришечкин и два моих сержанта.
Пакгауз. Четыре мешка овса, сено, но голова слегка кружится, и я посылаю сержанта узнать, как доехать до Петровской улицы. Сержант заходит в дом, потом в другой, потом исчезает. Ждать не могу, ехать куда, не знаю, посылаю другого сержанта, заходит в дом, в другой. Ждем. Подбегает старик с бутылкой вина и стаканом, отказаться невозможно. В доме напротив кричит женщина. Я спрыгиваю с телеги, добираюсь до дома, вижу незнакомого солдата, срывающего с женщины юбку, вытаскиваю из кобуры наган. Солдат замечает меня, отпускает женщину и со злобой покидает дом. А меня совсем разобрало. Чтобы устоять, держусь за стенку, за забор, выхожу на улицу.
Телега моя с лошадью есть, а Гришечкина нет. С трудом взбираюсь на мешки с овсом и все более и более пьянею.
Сержантов нет, Гришечкина нет, куда ехать, не знаю, и внезапно такая обида охватывает меня, что я начинаю рыдать. Я пьяный, меня бросили мои солдаты. Первый и последний раз на войне я плачу. Что было со мной дальше, не помню.
Кто-то трясет меня за плечо. Просыпаюсь. Командир роты капитан Рожицкий смотрит на меня с презрением. А я смотрю вокруг. Я на дворе, в саду, на Петровской улице, вокруг мои солдаты. Ничего не понимаю. Но и Рожицкий ничего не понимает.
Я, командир взвода, выпил и заснул, окруженный своими солдатами. Вина не большая. Он и сам не удержался от угощений.
Но как я попал к своим? Кто меня нашел в безумном хаосе освобожденного города?
Рожицкий уезжает, спрашиваю у Пеганова.
– Лейтенант, – говорит он, – у тебя хорошая лошадь, это она сама тебя привезла.
– А где Гришечкин?
– Гришечкина нет.
Конферансье просит меня рассказать что-либо аудитории. Я рассказываю:
– Не доезжая полтора километра… Пробка… «Мессершмитты»… Указатель на брод. Тысячи голых, черных, напоминающих чертей людей, напоминающих драконов лошадей, минометы, пушечки, плывущие по воздуху телеги, катающиеся по траве голые солдаты… И вдруг из зала вопрос:
– О чем вы нам рассказываете? Нет у нас никакого брода!
– Как нет, – говорю я, – полтора километра, не доезжая…
Весь зал хором:
– Нет такого брода! – и задыхаются от смеха.
– Полтора километра…
Девушка обнимает меня, и мы танцуем довоенное танго «Бабочки под дождем».
Я ей говорю:
– Валя! Все, что я рассказывал, – правда!
А она:
– Леонид Николаевич! Ничего страшного, немного перепили, – целует меня и подводит к моему месту за столом, и уже другой ветеран что-то говорит о Великом Генералиссимусе, а про меня забыли. Полная чепуха.
На следующий день я встал в шесть часов утра, подошел к мосту, прошел километра три по шоссе, по сельской дороге попытался спуститься к реке, но сделать это оказалось невозможно: вдоль реки на несколько километров протянулись кирпичные стены довоенных заводских цехов. Никакого брода действительно не было. Но ведь не сошел же я с ума?
И брод был, и черные лошади-драконы. Неужели это была другая река, другой город? Не приснилось же мне все это?
Вспоминаю.
Дома в Москве в ящике письменного стола лежит подшивка писем, которые в годы войны посылал я своим родителям, письма 1942–1944 годов. В одном из них я описывал эту переправу.
Цело ли оно?
Я в Москве.
Включаюсь в работу, но мысль о несуществующем броде не дает мне покоя. И вот, наконец, я добираюсь до этой подшивки, нахожу то свое письмо, и все становится ясно. Время сыграло со мной злую шутку. Указатель был, но не в полутора километрах от взорванного моста, а в восьми километрах. Был большой объезд, и переправа происходила не на окраине города, а вероятно, километрах в десяти от него. Подъехали мы к мосту вечером, всю ночь ехали сначала по Минскому шоссе, потом по проселочным дорогам, к переправе подъехали утром следующего дня, а до города ехали еще часа три.
А как попал в город на «Виллисе» Рожицкий? Вероятно, со всей техникой, по восстановленному за ночь понтонному мосту. Да, переправа была, да, ничего я не придумал.
Лирическое отступление
Память уводит меня назад. Юридический институт, Осип Максимович Брик, Лиля Брик, Катанян, Вертинский, Револь Бунин.
Летом 1940 года я подал документы на редакционный факультет Института повышения квалификации редакционно-издательских работников и одновременно сдал экзамены и был принят в Московский юридический институт.
И вот десять дней подряд я утром бежал в юридический институт, а оттуда мчался в полиграфический, и душа моя разрывалась на части, потому что в юридическом я познакомился с девочкой. После первого экзамена она просила меня посмотреть, как сидит на ней новое платье, я стеснялся, а она затащила меня в примерочную ателье, в кабинку, где переодевалась, расстегнула лифчик, просила меня застегнуть его.
Я расстегивал и застегивал пуговицы на ее новом платье, потом она пригласила меня к себе домой, но там кто-то был, с кем-то она меня знакомила. Мне очень хотелось учиться на редакционном факультете, но я никак не мог с ней расстаться, а на десятый день на стене раздевалки юридического института я увидел объявление о записи в литературный кружок, руководителем которого был Осип Максимович Брик.
Брики
На первом занятии прочитал свои летние стихи студент четвертого курса Борис Слуцкий, потом читали свои стихи Борис Цын, Игорь Лашков, потом очередь дошла до меня. Волнуясь и почти шепотом, я прочитал три своих последних заумных стихотворения. Вот фрагменты одного из них:
…Были – были. / Видите ли, вылетели, / Лишь спросили: / – Водители вы ли те ли?..
В общем – белиберда.
Но Осип Максимович оживился, что-то ему там понравилось, пригласил меня в гости.
И вот я вечером у Бриков в их квартире в Старопесковском переулке. Там Борис Слуцкий, Семен Кирсанов, незнакомые мне молодые поэты.