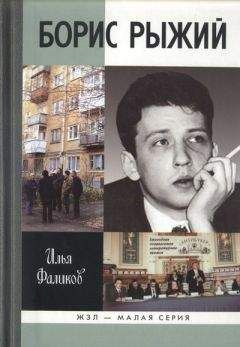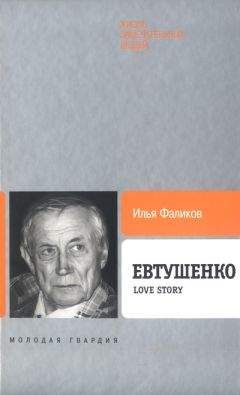…У русской поэзии есть память об Андре Шенье, павшем на плахе[7]. Молодой Пушкин назвал его Андреем, посвятив обширное стихотворение жертве революции (1825):
Зовут… Постой, постой; день только, день один:
И казней нет, и всем свобода,
И жив великий гражданин
Среди великого народа.
Не слышат. Шествие безмолвно. Ждет палач.
Но дружба смертный путь поэта очарует[8].
Вот плаха. Он взошел. Он славу именует…
Плачь, муза, плачь!..
Борис Рыжий — не тот тип, он больше напоминает печально-разгульного шотландца — посетителя буйственных заведений Роберта Бёрнса с его веселыми нищими:
Здесь краж проверяется опыт
В горячем чаду ночников.
Харчевня трещит: это топот
Обрушенных в пол башмаков.
К огню очага придвигается ближе
Безрукий солдат, горбоносый и рыжий,
В клочки изодрался багровый мундир.
Своей одинокой рукою
Он гладит красотку, добытую с бою,
И что ему холодом пахнущий мир.
Красотка не очень красива,
Но хмелем по горло полна,
Как кружку прокисшего пива,
Свой рот подставляет она.
Здесь же неподалеку и певец канавы, луны и пьяного корабля, законченный безумец Артюр Рембо, о котором здорово написал в далекой бурной молодости учитель Рыжего Евгений Рейн:
Он бросится назад, в Марсель, но будет поздно.
Без франка за душой, в горячечном бреду.
Есть медь и олово — из них получат бронзу.
Есть время и стихи — они не предадут.
Еще он будет бегло перелистан.
Его еще не смогут прочитать.
Его провоют глотки футуристов
И разнесут на тысячи цитат.
Он встанет над судьбой стиха и, точно
Последний дождь, по крышам прохлестав,
Разанилиненный при трубах водосточных —
Цвет гениальности на выцветших листах.
Шенье погиб из-за препирательства с новыми временами, полными кровавой свирепости. Борис сам скоропалительно сжег свою животрепещущую жизнь, скорей всего это палач-генетика. «Наследственность плюс родовая травма» («Снег за окном торжественный и гладкий…», 1997). Ни в какую распрю с «оккупационным режимом» не вступал. Конечно же он мог бы написать нечто подобное тому, что говорит Шенье в пушкинском стихотворении:
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!
Но ничего подобного он не писал. Напротив, была поэма о ГКЧП, пропала. Пронзительно скучая по детству, он не стремился, не ломился назад. По слову Кушнера: «Времена не выбирают. / В них живут и умирают».
В этом ряду и другой — русский — шотландец: Лермонтов, потомок Томаса-стихотворца. По следам Пушкина, внутри своего обширного стихотворения давшего якобы-перевод из Шенье, он тоже поминал погибшего собрата («Из Андрея Шенье», 1830 или 1831 год, Лермонтову шестнадцать лет):
За дело общее, быть может, я паду
Иль жизнь в изгнании бесплодно проведу;
Быть может, клеветой лукавой пораженный,
Пред миром и тобой врагами униженный,
Я не снесу стыдом сплетаемый венец
И сам себе сыщу безвременный конец…
Но все они похожи, эти нестарые поэты, потому что на лире бряцали, пели кто о чем и смотрели на небеса.
Может быть, от века и до сих пор во главе этой мировой ватаги молодых стоит Гай Валерий Катулл, веронский повеса и смутьян.
Поводырь старичка Фалерна юный!
в чаши горечь мне влей, — повелевает
так Постумии глас, царицы пира,
пьяных ягод налившейся пьянее.
Вы ж отсюда, пожалуй, прочь катитесь,
воды, порчи вина, и вон к сварливым
убирайтесь — чистейший здесь Фионец!
Дерзкий переводчик веронца — Максим Амелин — соперничает с Пушкиным, переложившим Катулла в 1832 году:
Пьяной горечью Фалерна
Чашу мне наполни, мальчик!
Так Постумия велела,
Председательница оргий.
Вы же, воды, прочь теките
И струей, вину враждебной,
Строгих постников поите:
Чистый нам любезен Бахус.
Еще никто не заметил, что это — рифма, довольно модерновая: «Фалерна — велела»?..
Вернемся в Петербург.
В редакцию «Звезды» на второй этаж ведет видавший виды, с щербинами и выбоинами, темносерый гранит — широкая и длинная лестница в два марша с разворотом. Подымаясь по ней, я вспомнил байку прошлых времен: известный поэт Н., участвуя в днях советской литературы в Ленинграде, после обильных массовых возлияний подался поутру в Эрмитаж, но, пройдя немного по мраморной лестнице, упал с болью в сердце и был доставлен в лазарет музея, где его откачали и спросили: ну, теперь вы сделали выводы?
— Да, мне совершенно противопоказан Эрмитаж.
Не исключено, что журнал «Звезда» внушал младому поэту некий трепет, тем более что его осведомленности хватало на то, чтобы знать несмешную, многотрудную историю издания, попавшего в 1946 году под топор партийного постановления[9], и уж если Зощенко — писатель местами смешной, то Ахматова явно не вызывает юмористической реакции.
По пути в журнал я заглянул в Музей Ахматовой на Фонтанке со стороны Литейного проспекта. Было рано, музей не работал, но у входа в ахматовский дом ходил красавец кот — львиной породы, массивный и оранжево-рыжий. В ошейнике. Таких теперь называют Чубайс, но я подумал о другой фамилии, потому как только о ней и думал в последнее время. Сближение странное, но вряд ли случайное.
Яков Гордин, один из двух соредакторов журнала, сказал о моей затее (писание этой книги):
— Дело благое. Но надо предвидеть и некоторые трудности…
— Да уже не предвижу, а вижу — фигура непростая.
В огромной комнате, точнее сказать — в зале, мы сидели с Александром Леонтьевым за небольшим круглым столиком.
— Вы полагаете, Борис равен Лермонтову?
— Почему бы и нет?
Борис Рыжий («Царское Село»):
Александру Леонтьеву
Поездку в Царское Село
осуществить до боли просто:
таксист везёт за девяносто,
в салоне тихо и тепло.
«…Поедем в Царское Село?..»
«…Куда там, господи прости, —
неисполнимое желанье.
Какое разочарованье
нас с вами ждёт в конце пути…»
Я деньги комкаю в горсти.
«…Чужую жизнь не повторить,
не удержать чужого счастья…»
А там, за окнами, ненастье,
там продолжает дождик лить.
Не едем, надо выходить.
Купить дешёвого вина.
Купить и выпить на скамейке,
чтоб тени наши, три злодейки,
шептались, мучились без сна.
Купить, напиться допьяна.
Так разобидеться на всех,
на жизнь, на смерть, на всё такое,
чтоб только небо золотое,
и новый стих, и старый грех…
Как боль звенит, как льётся смех!
И хорошо, что никуда
мы не поехали, как мило:
где б мы ни пили — нам светила
лишь царскосельская звезда.
Где б мы ни жили, навсегда!
Это было не первое посвящение другу Александру. Они познакомились в Москве на совещании молодых поэтов в 1994-м. Леонтьев обитал сразу в двух городах: в Питере, где родился, и в Волгограде, куда его отвезли в детстве. Он предпочитал историческую родину — берега Невы. Где и бросил якорь.