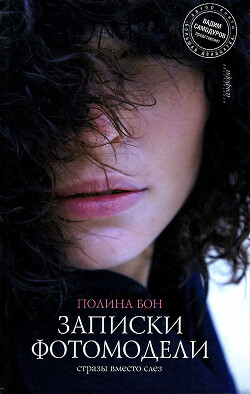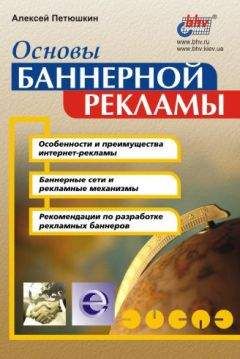– Что ЭТО? – удивленно смотрю я на режиссера и кучку его ассистентов.
– Это нефть, – отвечает он невозмутимо, без тени иронии. – Не переживай, она не вредная.
Я скидываю махровый халат, наброшенный на голое тело, и, отдавая его ассистентке, не слишком уверенно перекидываю ногу через борт ванны и опускаю ее в колышущуюся темноту, сквозь которую не видно дна.
– Надеюсь, она когда-нибудь отмоется…
– Позовешь кого-нибудь, кто тебе поможет, – режиссер озабоченно потирает небритые щеки. – Кстати, если это тебя серьезно беспокоит, у нас есть ацетон и скипидар на случай, если водой не смоется.
Он критически осматривает мою голову, которая торчит над маслянистой, темной как космос поверхностью.
Несколько секунд пристально смотрит на получающуюся картинку, задумчиво потирает висок и подбородок. И, несколько раз вздохнув, произносит:
– Детка, я думаю тебе придется залезть туда с головой!
– Вы что, с ума сошли?! – Я ощущаю, как две таблетки пиразидола, съеденные утром, стремительно теряют свой энергетический заряд и на меня наваливается плаксивость и чувство беспомощности. – Что я потом буду делать с волосами? И эта гадость – я даже не знаю, может, она мне глаза проест… Какого хрена вообще мы тут снимаем?
Мой срывающийся голос действует ему на нервы.
– Кто-нибудь принесите ей воды или что-нибудь выпить! – После чего снова обращается ко мне: – Детка, я не думаю, что ты готова платить неустойку. Ты сюда работать пришла, так же как и все мы, так что давай, не капризничай и погружайся с головой. Это всего на несколько секунд. Ты погружаешься, задерживаешь дыхание, а после встаешь и выходишь из ванны.
После того как выставлен свет и включена камера, я так и делаю. Ощущая себя птицей, попавшей в зону экологической катастрофы, я выхожу из маслянистой ванны, оставляя за собой черный шлейф.
– Дай мне секса! Больше секса! – краснея, надрывается режиссер. – Вот так! Выше подбородок и работай бедрами!
Он корчится на своем холщовом стуле в приступе восторга.
– Дай мне шик, детка! Это же нефть! Нефть – это большие деньги и секс!
Самые непредсказуемые съемки – это съемки для глянца. Никогда не знаешь, что ждет тебя на этот раз. Тебя нанимают для съемок в рекламе джинсового бренда, а привозят на скотобойню. Или приглашают в рекламу нижнего белья, а снимают на аэродроме. Это все потому, что количество рекламы в глянцевых журналах таково, что читатели ее уже просто не воспринимают. Чтобы зацепить их усталый и пресыщенный взгляд, просто красивых лиц и голого тела недостаточно, нужно каждый раз придумывать что-то все более и более извращенное.
Стройплощадка высотного жилого здания. Здесь снимают fashion-сессию для женского глянцевого журнала. Виктория и я должны демонстрировать новые дизайнерские шмотки на тридцать девятом этаже среди торчащей арматуры, железобетонных стен и огромных незастекленных оконных проемов, за которыми начинается небо.
Переодеваться приходится здесь же, за одной из уродливых стен.
Виктория заводит разговор:
– У тебя с Сашей что-то было?
Стилист прилаживает на моей спине большие черные крылья ангела, сделанные из настоящих перьев. Визажисты спешат нанести еще несколько легких штрихов кисточками на наши лица, пока не раздастся чей-нибудь командный голос.
– Нет, – отвечаю я. – А что-то должно было быть?
Виктория в образе белого ангела, одетого в короткое белое платье без рукавов и сапоги – все отFendi, – произносит чуть более равнодушно, чем это бывает, когда человеку просто интересно:
– Ну, я не знаю… Он от тебя весь вечер не отрывался. Я такого не видела никогда. Мне кажется, он на тебя запал…
Даже если на улице стоит чудесная погода, на тридцать девятом этаже воздух холодный и разреженный, как в горах. Мой голый живот, символически прикрытый короткой черной блузкой с широким вырезом до пупка, судорожно подергивается от холода, так как расстегнутая курткаIcebergв моем случае не предназначена для того, чтобы согревать. Куртка и я – это две вещи, которые выгодно дополняют и подчеркивают достоинства друг друга. Вещи не должны испытывать чувство голода, холода, боли – иначе они потеряют свое очарование.
Я встаю вполоборота, так чтобы были видны бедра и полоска живота, и кокетливо отставляю ногу, опираясь только на самый носок черного сапога. Мои руки согнуты в локтях и придерживают капюшон, из-под которого выбивается копна кудряшек. Виктория с воинственным и бесстрастным видом стоит на втором плане.
Фотограф кричит:
– Виктория, убери эмоции. Еще холоднее! Губы не сжаты, как куриная жопа, а просто сомкнуты.
Виктория на втором плане превращается в прекрасный ледяной столб.
– Лиза, а ты наоборот – больше вызова, больше чувства! Рот немного приоткрой… Губы! Губы! Дай мне чувственные губы!
Когда стоишь перед камерой, не нужно бояться выглядеть смешной или вульгарной: при всем желании не получится стать настолько смешной и вульгарной, насколько это нужно фотографу или заказчику. Все равно через три часа съемки, когда от усталости и отвращения тебя накроет полное безразличие, ты, как под гипнозом, будешь делать все, что тебе скажут. То есть Я —!!! – буду делать. Улыбаться, до боли в скулах растягивая мышцы лица. Плакать на камеру, заставляя себя вспомнить о том, о чем я обычно стараюсь не думать, даже когда нахожусь одна. Выпячивать задницу. Целоваться с ухоженными киборгами-моделями. Выгибать спину. Вытягивать ноги. Сидеть в нелепой позе на зеркальном шаре. Или голой лежать по горло в каком-нибудь дерьме.
Продюсер съемки удовлетворенно осматривает несколько пробных кадров и дает знак, чтобы готовили следующий съемочный сет. В каменном углу, единственном, наверное, где нет окон, стилисты и гримеры орудуют над нашими образами, меняя наряды и аксессуары. Снисходительно подставляя себя под руки и кисточки, обрабатывающие нас, Виктория снова возвращается к незаконченному, по ее мнению, разговору:
– Думаю, тебе не стоит с ним связываться. Он каждый день меняет девочек. – Карандаш в руке визажистки на несколько секунд останавливает движение губ Виктории. – Конечно, если хочешь стать еще одной шлюшкой в его постели – то пожалуйста… Испортишь репутацию – только и всего.
Мне хочется спросить: «Интересно, почему ты не говорила об этом, когда тащила меня на эту вечеринку?» Мне хочется, глядя в глаза Виктории, задать вопрос: «А сколько денег ты получила за то, что привезла меня туда?» Мне хочется поинтересоваться: «Почему НА САМОМ ДЕЛЕ ты так беспокоишься?»
Но вместо этого я нехотя и со скукой в голосе отвечаю:
– Откуда у тебя такие мысли? Я уже и забыла про него…
– Это ничего не значит. Он не успокоится, пока не оттрахает еще одну пушистую кисочку. – Виктория говорит так, как должен говорить настоящий белый ангел мщения.
Поскольку я уже успела съесть пару таблеток герфонала и опорожнить мочевой пузырь прямо в соседней комнате с видом на панораму города, то меня распирает радостный смех:
– В таком случае я обречена!
Но Виктория уже решила сменить тему:
– Я забыла тебе сказать, вчера звонила твоя мама…
Я не поверила своим ушам.
– Что она хотела?
– Спросить у тебя, не забыла ли ты привезти ей денег. И, кажется, она что-то говорила о том, что у нее онкология… – Замолчав, чтобы не съесть очередную кисточку, Виктория добавляет: – Я плохо запомнила, что она говорила… Она была не очень-то любезна.
– Это ее нормальное состояние. Последний раз, когда я с ней разговаривала, она назвала меня проституткой как минимум три раза…
Процедура придания нашим телам нужного вида и цвета завершена. Крылья ангелов на этот раз из элемента костюма превращаются в декорацию и стоят приставленными к свинцового цвета бетонной стене с торчащими из нее ржавыми прутьями арматуры. Теперь мы бывшие ангелы, и, вероятно, именно по этой причине нам полагается быть особенно соблазнительными и вызывающими.
Продюсер заходится в экстазе: