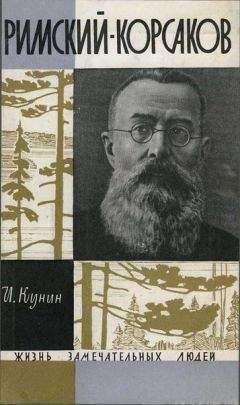На сцене среди разнохарактерной, оживленной толпы, пирующей за широкими столами, — молодой гусляр. Распевный говор его свободно переходит в песню, и мерный плеск морских валов, возникающий в оркестре, дает живой образ заветной мечте Садко:
Пробегали б мои бусы[16] корабли,
Объезжали б моря, моря синие.
Погулял бы в странах я неслыханных,
Насмотрелся б чудес я невиданных…
По далеким морям, по раздолью земли
Пронеслася бы слава Новгорода!
А и вы бы тогда, гости знатные,
За то во пояс мне поклонилися.
А ведь гусляр этот — плоть от плоти пирующих новгородцев! В его песне их горделивая сила, их наивная похвальба слышится! Но песня его летит, как птица, и зовет в манящее приволье, где гуляют ветры и плещут валы.
Восторженно встречает зал начало второй картины. Художник в самом деле отличился. В сизой дымке неясно светится Ильмень-озеро. Чуть колышется тростник, смутно чернеют прибрежные кусты, могучие дубы широко раскинули ветви. Летняя ночь все одела благодатным покровом. Но тоскует присевший на камень гусляр: осмеяли, обидели его именитые купцы, поглумились над ним скоморохи. Из неприветливого города потянуло его на берег просторного Ильменя… Пробежал в арфах мелодичный звонкий ветерок, разошлись белесые полосы тумана, цепляясь за кусты, шире открывая озерный простор. А музыка все таинственнее, все значительнее, точно близится великое событие.
Ой ты, темная дубравушка!
Расступись, дай мне дороженьку…
Людям стали уж ненадобны
Мои гусельки яровчаты.
И на заунывную песню откликается родная гусляру стихия природы. По озерной глади скользнула лебединая стая, мгновенно обернувшаяся вереницей девушек. Всех краше, всех приветнее вышла на берег Морская царевна, ласковая Волхова. Жемчуг и гибкие водоросли вплетены в косы, по плечам и груди струится мерцающий зеленью наряд, нежные руки еще хранят тайну лебединой гибкости. С первыми же кристально чистыми звуками, вылетающими из ее груди, странное чувство овладевает слушателями: на сцене не артистка, на сцене — живая царевна Волхова.
Светят росою медвяною косы твои, —
поет Садко, не сводя с Волховы восхищенных глаз.
Звончаты струны, искусны персты у тебя… —
вторит царевна. Мелодия любовного объяснения покачивается, как ладья на волне, веет от нее ароматом медуницы и кашки, и сладко кружится голова…
Летняя ночь коротка. Идет к концу таинственное свиданье. Похолодели краски, брезжит свет.
Дарю тебе я на прощанье
Три рыбки — перья золотые.
Закинешь сеть, поймаешь их.
Богат ты будешь и счастлив,
Объедешь синие моря,
Увидишь дальние края.
А я, царевна Волхова,
Подруга вещая твоя,
Тебя я стану поджидать…
Люби меня, будь верен мне,
Придет пора — и свидимся…—
звенит хрустальный голос Морской царевны, и в ее странной, похожей на заклинание песне настороженный слух ловит отзвук немолчной песни океана. Вот сейчас обернется Волхова снова белым лебедем. Конец ночи и конец ночному очарованию…
Бурно вздымаются волны в Ильмень-озере, дико звучат тревожные голоса в оркестре. Многоликая стихия природы являет человеку иную свою сторону. Грозный Царь морской скликает дочерей…
В антракте автор прошел за кулисы. На вопрос Мамонтова, как он находит спектакль, композитор ответил честно:
— У меня много замечаний, особенно по части хора и оркестра. Но есть нечто более важное, чем отделанность деталей. Мне нравится.
Прежде чем Савва Иванович успел вымолвить словечко, их окружили тесным кольцом артисты.
— Благодарю, — сказал композитор и поклонился.
— Вас особенно, — он крепко пожал руку Секар-Рожанскому, исполнителю роли Садко.
Чей-то взгляд заставил его обернуться. Перед ним была Волхова, с робким вопросом в чуть косящих глазах, с неуловимой русалочьей улыбкой. Композитор хотел сказать, что счастлив, что впервые в жизни встретил идеальное воплощение своего замысла, что у него в ушах все еще звучит ее удивительный голос. Но кругом стояли люди. Рабочие быстро и сноровисто тюкали деревянными молотками, устанавливая задник.
— Надежда Ивановна Забела, — раздался негромкий голос, и Волхова, все так же робко глядя ему в глаза, протянула руку. — Я училась в Петербургской консерватории. У Ирецкой.
— Да, да. Припоминаю…
— Мой муж, Михаил Александрович Врубель. Ваш горячий поклонник.
— Очень рад. — Корсаков сжал руку молодому художнику.
— И я очень рад.
Наступило короткое молчание.
— Простите. Мне пора. Поете вы превосходно. Вполне хорошо, — глуховато выговорил композитор и скрылся. Он не помнил, чтобы когда-либо так волновался.
Четвертая картина — на новгородской пристани — ошеломила мощью и красотой. Великолепны были декорации и костюмы. Густая киноварь кораблей на кубовой синеве неба, буйная красочность панев, сарафанов, кафтанов и причудливых головных уборов нигде не переходила в пестроту: Коровин задумал их в одной радостной гамме.
На этом бурном цветовом фоне победа гусляра над убогим здравым смыслом новгородских богатеев прозвучала вдохновенно. Голос Волховы, долетевший до Садко из прозрачной озерной глубины, был исполнен необыкновенной прелести. Зал притих, охваченный почти благоговейным чувством.
Властно, ни на кого не глядя, Варяжский гость начинает рассказ:
О скалы грозные дробятся с ревом волны…
Могучий викинг возвещает о людях суровой северной страны, об их угрюмой отваге. Холодное, бурливое море гневно бьется в оркестре, орошая серые утесы бессильными брызгами.
Шаляпин, браво! Браво, браво, Шаляпин! — прокатывается по театру.
И снова глубокая тишина. От музыки повеяло теплом. Лениво качнулась лазурная ширь южного моря.
Не счесть алмазов в каменных пещерах… —
разливается сладостная песня Индийского гостя. Гордая мечта Садко близится к осуществлению. Она овладела воображением новгородцев, подняла новгородский люд на подвиг: в далекое плавание уходит Садко с вольной дружиной. Готовы корабли, подняты паруса.
Высота ли, высота поднебесная, —
запевает бесстрашный гусляр. Песню подхватывает дружина. Паруса наполняются ветром, лучи заходящего солнца озаряют их. Занавес медленно опускается. Гремит торжественный хор: