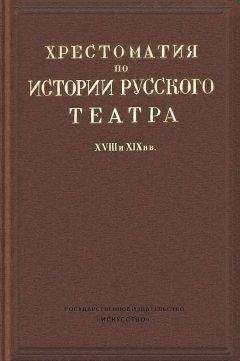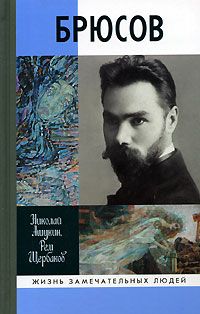«Ревизор», сыгранный на московской сцене без участия автора, великого комика жизни действительной, поставленный в столько же репетиций, как какой-нибудь воздушный водевильчик, с игрою г-жи Репиной, не упал в общественном мнении, хотя в том же мнении московский театр спустился от него, как барометр перед вьюгою.
На первом представлении «Ревизора» была в ложах, бельэтаже и бенуарах так называемая лучшая публика, высший круг; кресла, за исключением задних рядов, были заняты тем же обществом. Не раз уже было замечаемо, что в Москве каждый спектакль имеет свою публику. Взгляните на спектакль воскресный или праздничный. Дают трагедию или «Филатку»,[28] играют Мочалов, Живокини, кресла и бельэтажи пусты, но верхние слои театра утыканы головами зрителей, и вы видите, между лесу бород, страусовые перья на желтых шляпах. Раек полон чепчиками гризеток, обведенных темною рамою молодежи всякого рода. Посмотрите на тот же театр в будни, когда дают, например, «Невесту Роберта».[29] Посетители наоборот: низ — дорогие места — полны, дешевые верхние — пусты. И в том разделении состояния и вкусов видна уже та черта, которая делит общество на две половины, не имеющие между собой ничего общего, которых жизнь, занятие, удовольствие разны, чуть ли не противоположны, и, следовательно, то, что может и должно действовать на одних, не возбуждает в других участия, занимательное для круга высшего не встречает сочувствия в среднем.
(«Молва» 1836 г., № 9.)
(1788–1863) 1
Фамусов, в его исполнении, был далеко не аристократ; да и мог ли им быть управляющий казенным местом Павел Афанасьевич Фамусов? А каков был аристократ его дядя, его гордость, можно судить из слов самого Фамусова:
Когда же надо прислужиться,
И он сгибался в перегиб.
И далее:
Упал он больно — встал здорово…
Чему вполне сочувствует и племянничек. Барства, чванства много должно быть в достойном родственнике «Максима Петровича», и именно таким московским барином двадцатых годов был в этой роли Щепкин. Он один вполне создал этот тип, и, к сожалению, со Щепкиным умер и Фамусов. Важным, сосредоточенным[30] был Щепкин и с лакеем (в душе), чиновником Молчалиным, и со своими крепостными лакеями. Какой барский гнев слышался в словах:
В работу (подразумевается каторжная)
вас, на поселенье вас…
Полная сдержанность — при обращении с дочерью и с гостями; любезен Павел Афанасьевич с одним Скалозубом (нельзя же, желанный жених!), да пасует еще перед Хлестовой. Превосходно вел Щепкин сцены 2-го акта с Чацким и Скалозубом. В его монологах не слышно было стихов, а плавно лилась восторженная речь о всех достоинствах дорогой Фамусову Москвы; и не одно сочувствие, но и уважение выражал он к раболепству и низкопоклонничеству его героев, бывших
Век при дворе, да при каком дворе!
Тогда не то, что ныне.
При государыне служил — Екатерине!
А других чувств и стремлений в людях того времени Фамусов — Щепкин не признавал, да и не мог их знать или понять. Очень хорош был Щепкин в III действии. Он тонко оттенял, в своей надутой любезности хозяина, разную категорию гостей. В сцене с Хлестовой сначала сдержанно вел он спор о количестве душ Чацкого, но, не выдержав, под конец восклицал:
Щепкин с торжественностью шел в польском, во время дивертисмента, который — увы! — и до сих пор существует на всех сценах при исполнении «Горе от ума». По пьесе, в конце III акта, перед окончанием монолога «Французик из Бордо» раздаются на сцене негромкие звуки вальса; при последнем слове монолога: «Глядь» — Чацкий оборачивается и, увидав, что давно его никто не слушает, все кружатся в вальсе, он поспешно уходит. Занавес падает. На сценах же императорских театров тут начинается форменный бал, который открывает польским Фамусов с Хлестовой; вслед за ним танцуют французскую кадриль. Дивертисмент кончается мазуркой; в первой паре отличается Скалозуб; он встряхивает густыми эполетами, щелкает шпорами, выделывает разные фигуры, становится на одно колено и т. п. Существуют до сих пор два традиционные условия, необходимые для роли полковника Скалозуба, а именно — говорить хриплым басом и ловко танцовать мазурку.
В обращении Фамусова к сыну его покойного друга Андрея Ильича — к Чацкому — тон Щепкина был не только ироничен, но почти презрителен. Постоянно слышалась ненависть к противнику и взглядов, и всех понятий почтеннейшего Павла Афанасьевича. Как сейчас вижу на искаженном злобою лице Щепкина какая появилась презрительная улыбка, я вижу жест его рук, когда Чацкий произносил:
Я сватаньем не угрожаю вам.
Ясно помню превосходную игру Михаила Семеновича в IV действии. Убедившись из вопля страданий Чацкого, что он окончательно рехнулся, Фамусов начинает спокойно говорить Софье:
Ну, что! Не видишь ты, что он с ума сошел?
Скажи серьезно?
Безумец, что он тут за чепуху молол.
Низкопоклонник тесть и про Москву так грозно.
Но совершившийся в его доме скандал вдруг вспоминается Фамусову, и под гнетом будущих сплетен и пересудов наклонял Щепкин свою еще недавно гордо поднятую напудренную голову, и из его груди вырывался вопль фамусовских страданий:
Моя судьба еще ли не плачевна!
Ах! боже мой! Что станет говорить
Княгиня Марья Алексевна!..
Совершенство игры Щепкина навело меня на мысль, что во многих ролях великих драматических произведений бывает слово, которое рельефно определяет характер лица: одним словом обрисовывается вся роль.
Подобное «слово» в роли Фамусова подсказал мне Щепкин своим исполнением 4 акта. За сценой шум, раздается голос Фамусова:
Сюда, за мной скорей, скорей!
Свечей побольше, фонарей.
Где домовые?
Фамусов видит Чацкого и Лизу
Увидав дочь:
Дочь! Софья Павловна, срамница,
Бестыдница! Где, с кем!
Это «с кем»… ключ ко всей роли! Будь на месте Чацкого (совсем не желательного жениха, не богатого, не служащего человека, да еще вдобавок либерала) другой подходящий, хотя бы полковник Скалозуб, Фамусов прошел бы мимо, ничего не заметив: домовой пришелся бы к дому. Павел Афанасьевич сделал бы это потому, что дочка назначила любовное свидание человеку, годному в женихи. Он отвернулся бы, как, вероятно, отворачивался и прежде, не желая видеть похождений «покойницы жены», про которую при проступке дочери он так деликатно вспоминает.