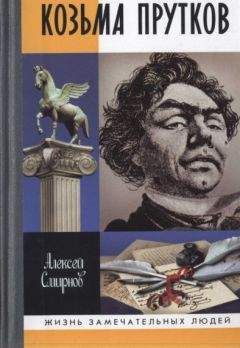Так постепенно начинал материализовываться некий дух, вознамерившийся воплотиться в солидного густобрового господина по имени Козьма Прутков…
Глава четвертая
ПОХОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА ПРОБИРНОЙ ПАЛАТКИ
Что скажут о тебе другие, если сам о себе ты ничего сказать не можешь?
Жизнеописание Козьмы Пруткова, составленное им самим
Жизнеописание Козьмы естественно начать с тех сведений, которые оставил о себе он сам. Пусть они коротки, отрывочны и неполны. Пусть они разбросаны по всей сопроводительной части его Полного собрания сочинений вперемежку с отзывами о нем других лиц. Это уж наше дело — разобраться в путанице событий, составляющих человеческую жизнь. Тем более сопровождавших такую жизнь, какую прожил Козьма Петрович Прутков. Точнее, две такие жизни, ведь он прожил именно две жизни одновременно: явную — государственного служащего и скрытую до поры — частного литератора. Хотя именно вторая жизнь и принесла ему, в конце концов, всемирную славу, поставила его по неслыханной и неувядающей популярности в один ряд с классиками русской литературы и одновременно с самыми известными ее персонажами.
Тютчев, Фет, Прутков, Некрасов…
Фамусов, Чичиков, Обломов, Прутков…
Бенедиктов, Полонский, Прутков, Щербина…
Чацкий, Ноздрев, Плюшкин, Прутков…
Раз дело дошло до жизнеописания последнего, — а жизнеописание уже есть момент чествования, — то слово виновнику торжества.
Не чувствуя себя в праве прерывать директора и вместе с тем испытывая необходимость в комментариях, будем отмечать интересные места курсивными номерами с тем, чтобы пояснить их в следующей главке «Комментарии к „Похождениям директора Пробирной Палатки“».
Козьма ПРУТКОВ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОЕЙ БИОГРАФИИВ 1801 году, 11 апреля, в 11 часов вечера, в просторном деревянном с мезонином 1 доме владельца дер. Тентелевой, что близ Сольвычегодска 2, впервые раздался крик здорового новорожденного младенца мужеского пола; крик этот принадлежал мне, а дом — моим дорогим родителям 3.
Часа три спустя подобный же крик раздался на другом конце того же помещичьего дома, в комнате, так называемой «боскетной»4; этот второй крик хотя и принадлежал тоже младенцу мужеского пола, но не мне[99], а сыну бывшей немецкой девицы Штокфиш, незадолго перед сим вышедшей замуж за Петра Никифоровича, временно гостившего в доме моих родителей.
Крестины обоих новорожденных совершались в один день, в одной купели, и одни и те же лица были нашими восприемниками, а именно: сольвычегодский откупщик Сысой Терентьевич Селиверстов и жена почтмейстера Капитолина Дмитриевна Грай-Жеребец 5.
Ровно пять лет спустя, в день моего рождения, когда собрались к завтраку, послышался колокольчик, и на дворе показался тарантас 6, в котором, по серой камлотовой шинели 7, все узнали Петра Никифоровича. Это действительно он приехал с сыном своим Павлушею. Приезд их к нам давно уже ожидался, и по этому случаю чуть ли не по нескольку раз в день доводилось мне слышать от всех домашних, что скоро приедет Павлуша, которого я должен любить потому, что мы с ним родились почти в одно время, крещены в одной купели и что у обоих нас одни и те же крестные отец и мать. Вся эта подготовка мало принесла пользы; первое время оба мы дичились и только исподлобья осматривали друг друга. С этого дня Павлуша остался у нас жить, и до 20-летнего возраста я с ним не разлучался. Когда обоим нам исполнилось по десять лет, нас засадили за азбуку 8. Первым нашим учителем был добрейший отец Иоанн Пролептов, наш приходской священник. Он же впоследствии обучал нас и другим предметам. Теперь, на склоне жизни, часто я люблю вспоминать время моего детства и с любовью просматриваю случайно уцелевшую, вместе с моими учебными тетрадками, записную книжку почтенного пресвитера, с его собственноручными отметками о наших успехах. Вот одна из страниц этой книжки:
Такие отметки приводили родителей моих в неописанную радость и укрепляли в них убеждение, что из меня выйдет нечто необыкновенное. Предчувствие их не обмануло. Рано развернувшиеся во мне литературные силы подстрекали меня к занятиям и избавляли от пагубных увлечений юности. Мне было едва семнадцать лет, когда портфель, в котором я прятал свои юношеские произведения, был переполнен.
Там была проза и стихи. Когда-нибудь я ознакомлю тебя, читатель, с этими сочинениями 9, а теперь прочти написанную мною в то время басню. Заметив однажды в саду дремавшего на скамье отца Иоанна, я написал на этот случай предлагаемую басню:
СВЯЩЕННИК И ГУМИЛАСТИК
Однажды, с посохом и книгою в руке,
Отец Иван плелся нарочито 10 к реке.
Зачем к реке? Затем, чтоб паки
Взглянуть, как ползают в ней раки.
Отца Ивана нрав такой.
Вот, рассуждая сам с собой,
Рейсфедером он в книге той
Чертил различные, хотя зело не метки,
Заметки.
Уставши, сев на берегу реки,
Уснул, а из руки
Сначала книга, гумиластик,
А там и посох — все на дно.
Как вдруг наверх всплывает головастик
И, с жадностью схватив в мгновение одно
Как посох, так равно
И гумиластик,
Ну, словом, все, что пастырь упустил,
Такую речь к нему он обратил:
«Иерей! 11 не надевать бы рясы,
Коль хочешь, батюшка, ты в праздности сидеть
Иль в праздности точить балясы!12
Ты денно, нощно должен бдеть,
Тех наставлять, об тех радеть,
Кто догматов 13 не знает веры,
А не сидеть,
И не глазеть,
И не храпеть,
Как пономарь, не зная меры».
…………………
Да идет баснь сия в Москву, Рязань и Питер,
И пусть
Ее твердит почаще наизусть
Богобоязливый пресвитер.
Живо вспоминается мне печальное последствие этой юношеской шалости. Приближался день именин моего родителя, и вот отцу Иоанну пришло в голову заставить меня и Павлушу разучить к этому дню стихи для поздравления дорогого именинника. Стихи, им выбранные, хотя были весьма нескладны, но зато высокопарны. Оба мы знатно вызубрили эти вирши и в торжественный день проговорили их без запинки перед виновником праздника. Родитель был в восторге, он целовал нас, целовал отца Иоанна. В течение дня нас неоднократно заставляли то показать эти стихи, написанные на большом листе почтовой бумаги, то продекламировать их тому или другому гостю. Сели за стол. Все ликовало, шумело, говорило, и, казалось, неприятности ожидать неоткуда. Надобно же было на беду мою случиться так, что за обедом пришлось мне сесть возле соседа нашего Анисима Федотыча Пузыренко, которому вздумалось меня дразнить, что сам я ничего сочинить не умею и что дошедшие до него слухи о моей способности к сочинительству несправедливы; я горячился и отвечал ему довольно строптиво, а когда он потребовал доказательств, я не замедлил отдать ему находившуюся у меня в кармане бумажку, на которой была написана моя басня «Священник и гумиластик». Бумажка пошла по рукам. Кто, прочтя, хвалил, а кто, просмотрев, молча передавал другому. Отец Иоанн, прочитав и сделав сбоку надпись карандашом: «Бойко, но дерзновенно», передал своему соседу. Наконец бумажка очутилась в руках моего родителя. Увидав надпись пресвитера, он нахмурил брови и, недолго думая, громко сказал: «Козьма! приди ко мне». Я повиновался, предчувствуя, однако, что-то недоброе. Так и случилось, — от кресла, на котором сидел мой родитель, я в слезах поспешно ушел на мезонин, в свою комнату, с изрядно накостылеванным затылком…