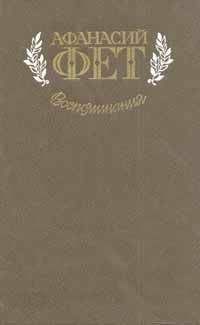Ваш Л. Толстой.
13 июля 1879 года.
Не сердитесь на меня, дорогой Афанасий Афанасьевич, что не писал вам, не благодарил вас за приятный день у вас и не отвечал на последнее письмо ваше. Правда должно быть, что я у вас был не в духе (простите за это), я и теперь все не в духе. Все ломаюсь, мучаюсь, тружусь, исправляюсь, учусь и думаю, что не так ли, как Василий Петрович покойник, доведется и мне заполнить пробел да и умереть, а все не могу не разворачивать сам себя.
У нас все корь: половину детей перебрала, а остальных ждем. Что ж вы в Москву? Только не дай Бог, чтобы для здоровья, а хорошо бы для винтов каких-нибудь в машину, и к нам бы заехали. Наш поклон Марье Петровне.
Ваш Л. Толстой.
28 июля 1879 года
Благодарю вас за ваше последнее хорошее письмо, дорогой Афанасий Афанасьевич, и за аполог о соколе, который мне нравится, но который я желал бы более пояснить. Если я этот сокол и если, как выходит из последующего, залетание мое слишком далеко состоит в том, что я отрицаю реальную жизнь, то я должен оправдаться. Я не отрицаю ни реальной жизни, ни труда, необходимого для поддержания этой жизни, но мне кажется, что большая доля моей и вашей жизни наполнена удовлетворениями не естественных, а искусственно привитых нам воспитанием и самими нами придуманных и перешедших в привычку потребностей, и что девять десятых труда, полагаемого нами на удовлетворение этих потребностей, — праздный труд. Мне бы очень хотелось быть твердо уверенным в том, что я даю людям больше того, что получаю от них, но так как я чувствую себя очень склонным к тому, чтобы высоко ценить свой труд и низко ценить чужой, то я не надеюсь увериться в безобидности для других расчета со мной одним усилением своего труда и избранием тяжелейшего (я непременно уверю себя, что любимый мною труд есть самый нужный и трудный);- я желал бы как можно меньше брать от других и как можно меньше трудиться для удовлетворения своих потребностей; и думаю, так легче не ошибиться. Жалею очень, что здоровье ваше все нетвердо, но радуюсь тому, что вы духом здоровы, что видно из ваших писем. От души обнимаю вас и прошу передать наши поклоны Марье Петровне.
Ваш Л. Толстой.
Несмотря на удачную операцию в Вене, не оставившую после себя никаких болезненных следов, Любовь Афанасьевна, собиравшаяся навестить нас в Воробьевке, с каждым днем видимо ослабевала и гасла и наконец навеки заснула в своем номере, откуда перевезена была в свой приход, в село Долгое и близ церкви похоронена рядом с мужем.
Однажды, когда мы с Петей Борисовым ходили взад и вперед по комнате, толкуя о ширине замысла и исполнения гетевского «Фауста», Петруша сказал мне, что он в шутку пробовал переводить особенно ему нравившиеся стихи этой трагедии, как наприм., в рекомендации Мефистофеля ученику изучать логику.
— Я, — говорил Борисов, — перевел!
Тут дух ваш чудно дрессируют,
В сапог испанский зашнуруют.
— Прекрасно! — воскликнул я, — как бы разом учуяв тон, в котором следует переводить Фауста, — и при этом признался Пете, что много раз, лежа в Спасском на диване в то время, как Тургенев работал в соседней комнате, усердно скрипя пером, — я, как ни пытался, не мог перевести ни одной строчки Фауста, очевидно, только потому, что подходил к нему на ходулях, тогда как он сама простота, доходящая иногда до тривиальности. Но тут, продолжая ходить взад и вперед с Борисовым, я шутя перевел несколько стихов, которые помнил наизусть.
— Дядичка! — воскликнул Борисов: — умоляю тебя, возьмись за перевод «Фауста». Кому же он яснее и ближе по содержанию, чем тебе?
— Не могу, не могу, — отвечал я. — Знаю это по опыту.
На этом разговор и кончился. Тем не менее, в скорости по отъезде Борисова в лицей, я осмелился приступить к переводу Фауста, который стал удаваться мне с совершенно неожиданной легкостью[242].
Л. Н. ТолстоЙ писал:
31 августа 1879 года.
Дорогой Афанасий Афанасьевич, разумеется, я опять виноват перед вами, но, разумеется, не от недостатка любви к вам и памяти о вас. Мы со Страховым то и дело говорили про вас: судили и рядили, как мы все судим друг о друге, и как дай Бог, чтобы обо мне судили. Страхов очень доволен пребыванием у вас и еще больше вашим переводом. Мне удалось вам рекомендовать чтение 1001-й ночи и Паскаля, и то, и другое вам не то что понравилось, а пришлось по вас. Теперь имею предложить книгу, которую еще никто не читал, и я на днях прочел в первый раз и продолжаю читать и ахать от радости; надеюсь, что и эта придется вам по сердцу, тем более что имеет много общего с Шопенгауэром: это Соломона Притчи, Экклезиаст и книга Премудрости, — новее этого трудно что-нибудь прочесть; но если будете читать, то читайте по-славянски. У меня есть новый русский перевод, но очень дурной. Английский тоже дурен. Если бы у вас был греческий, вы бы увидали, что это такое. Поклонитесь от меня Пете Борисову и посоветуйте ему от меня почитать по-гречески и сличить с переводами. Я сейчас ходил гулять и думал о Пете. Не знаю, чему ему надо еще учиться, но знаю, что с его знаниями я могу предложить ему дела четыре такие, на которые нужно посвятить жизнь и успех, хотя неполный, заслужит навеки благодарность всякого русского, пока будут русские.
У нас после приезда Страхова были гость на госте, театр и дым коромыслом, 34 простыни были в ходу для гостей, и обедало 30 человек, — и все сошло благополучно, и всем, и мне в том числе, было весело. Наш душевный привет Марье Петровне.
Ваш Л. Толстой.
Продажа Новоселок. — Тереза Петровна. — Письма. — Поездка в Крым. — Семейство Ребиллиоти. — Их усадьба. — Севастополь. — Тази и Реунов. — Севастопольское кладбище. — Ялта. — Продажа Фатьянова. — Покупка Борисовым Ольховатки.- 1-е марта 1881 года. — Письмо брата.
Встретив Новый год и на этот раз у Покровских ворот, я, по крайней мере лично, пробыл в Москве весьма короткое время и уехал в Воробьевку, заехавши по дороге в Ясную Поляну.
Отыскался и серьезный покупатель на Новоселки. Не буду вспоминать всех раздражительных и тяжелых минут, по случаю всякого рода мелочных препятствий, возбужденных при этом покупателем. Неприятно обрывать свое собственное, но быть вынужденным обрывать чужое, вверенное вашей охране, — пытка. Но вот, худо ли, хорошо ли, запродажа наших родных Новоселок состоялась, и я со свободною душой мог снова усесться в моем уединенном кабинете, устроенном, как я выше говорил, в числе трех комнат на бывшем чердаке. Срок аренды орловскому имению, снятому Иваном Алекс. кончился, и он возобновить его к Новому году не захотел; а потому, по просьбе нашей, 70-ти летняя старушка матушка его, Тереза Петровна, переехала к нам.