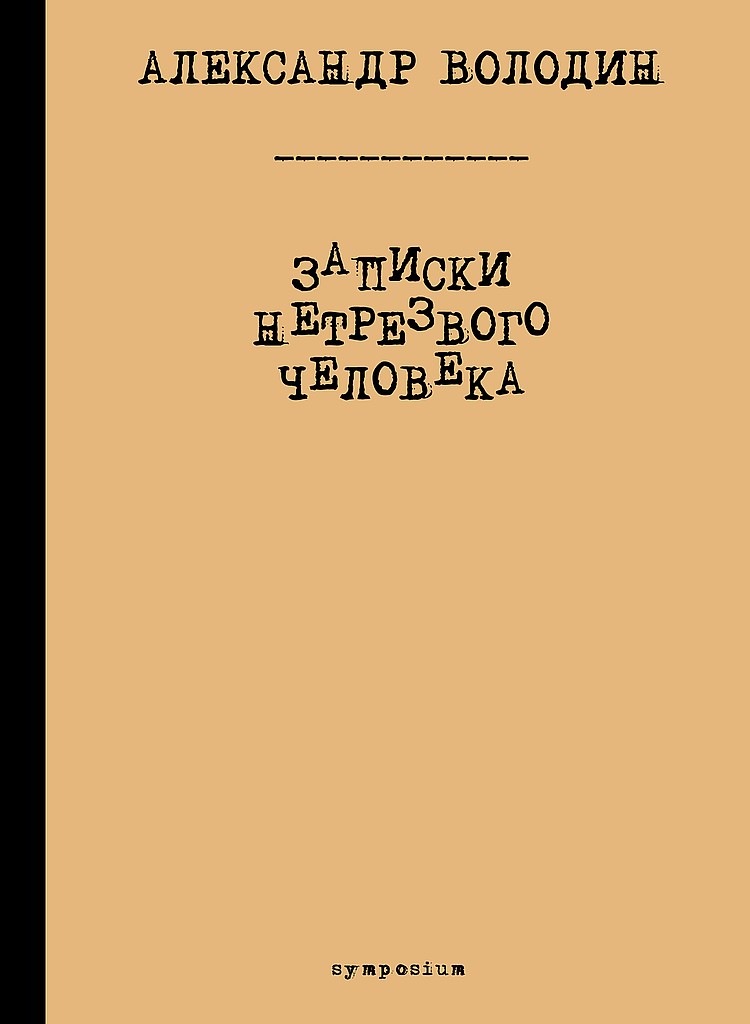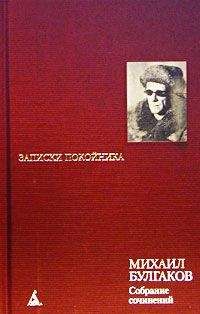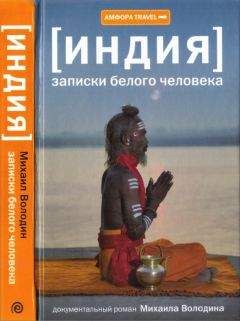деревенской школе, к армии — и вновь возвращается в «сегодняшний» день. Повествование размывается вставками, в принципе не имеющими прямого отношения друг к другу. И обнаруживается, что строгая композиция — шутка, игра…
«Оптимистические записки» Володин пишет не от лица драматурга и сценариста, вполне себе знаменитого, каким он и является, а как бы от лица скромного совслужащего, пусть и работающего в прельстительной сфере театра и кинематографа. Он исходит из классического образа маленького человека: «Это я — человек-невеличка, всем, кто есть, прихожусь близнецом, сплю, покуда идет электричка, пав на сумку невзрачным лицом» (Б. Ахмадулина). В «Оптимистических записках» Володин выстраивает образ человека, никакого отношения к литературной среде, к искусству не имеющего. К творчеству — да, имеет, соображения об искусстве может предъявить, но мир культуры — увольте… Он будет писать и о том, как попал в театр, о Товстоногове, о Ефремове, о Евстигнееве, но это восхищенный и влюбленный взгляд со стороны, со стороны почитателя и знатока искусства, но никак не участника процесса.
Молодые шестидесятники были людьми стадионов, людьми громких стихов и непримиримых позиций… Володин оказался человеком не позиций, а интонации, человеком внутренней рефлексии. А что лежит в основе рефлексии, самоедства, внутренней разорванности? Неспособность поступить так, как должно.
К автобиографической прозе Володин вновь обратился примерно лет через десять.
Вторая половина 1970-х, время «застоя», лично для Володина — по-особому тяжелый период. Эпизодические, вялые, какие-то необязательные попытки заняться прозой, которую охотно, «с колес», печатал бодрый молодежный журнал «Аврора», творческого удовлетворения не приносили.
В репертуаре тех лет драматург продолжает занимать одно из ведущих мест, но как-то «бочком», в отдалении от мейнстрима. Театр беззаветно любил Володина: на него ходил зритель, и массовый, и рафинированный. Это издавать миллионными тиражами можно что угодно — книгоиздание финансировалось государством и им же (таинственным образом) потреблялось. Но публику в зал силком не затащишь.
Не покидает подмостков трогательная полуповесть, полупьеса «С любимыми не расставайтесь!», по лирической своей природе дающая возможность для эффектных сценических решений. В 1970-е написаны все его «метафорические» пьесы, но, кроме «Дульсинеи Тобосской», они лишь «просачивались» на сцену, преимущественно студийную или провинциальную.
Однако содержательно положение Володина в театре и в контексте культуры изменилось. Пришли новые драматурги, появились новые имена: А. Вампилов, Л. Петрушевская, А. Соколова, В. Славкин, А. Галин… Решительно заняла свое место производственная драматургия (И. Дворецкий, А. Гельман и др.). Стали популярны квазиисторические театральные «пастиши», в круг которых попала и «Дульсинея Тобосская», превращенная в зажигательный мюзикл с куплетами. Володин пишет сценарии, в том числе и «Осенний марафон», фильм, массовое признание которого сымитировало оглушительный успех товстоноговских «Пяти вечеров».
Он ведет жизнь творческого лица без определенных занятий. Охотно откликается на встречи и творческие вечера, вплоть до самых что ни на есть дежурных, но и их немного. Крошечный рассказик «Хороший день» — про день, проведенный в подсобке Театральной библиотеки в окружении милых библиотечных дев, хорошо передает его состояние — блаженного отчаяния.
Люди, начинавшие как треплевы с жажды новых форм и новой правды, обнаружили, что ум, профессионализм, да и сам талант можно конвертировать в немалые жизненные блага. Пробле матика жизни стала иной. Наступало время «взрослых» — умных, расчетливых, злых и опытных взрослых. Время создавало либо прохиндеев, либо героев, у которых были проблемы прежде всего с самими собой, героев, которые мучились (если мучились!) неспособностью к достойному — в собственных глазах — поведению.
Володин входит в кризис, переживает душевный надлом: «Понимаешь, вроде бы ничего не стряслось, — запишет в 1967 году его слова Лана Гарон, театральный критик и многолетняя приятельница. — Просто мне плохо и все. <…> Я хотел переехать в Москву. Неверное уже время… Я не уверен, что в Москве мне станет лучше. Это же внутри меня (курсив мой. — Е. Г.). Иногда кажется, что я уже вообще должен покинуть землю — мне уже никогда лучше не будет <…> Я страшно устал. Я плохо, я не так живу. Мне стыдно, мне трудно, и я хочу умереть. Я ною, да» [10].
Проблематика «Записок нетрезвого…» глубоко личная, и при этом она абсолютно конгениальна всеобщему настроению 1970–1980-х годов.
Да собственно такова и «Утиная охота» Вампилова, определившая эту театральную эпоху. Жил, жил, и вдруг оказалось — жить невозможно, дышать нечем, любить некого, близкие — деревянны, а единственный собеседник — нелюдь… Ружье — самый что ни на есть подходящий аксессуар. А между тем это состояние души сформировал, артикулировал и с болезненной страстностью сделал своим лейтмотивом именно Володин.
В 1976 году эмигрировал в США старший сын Володя, талантливый математик. Отъезд кого-нибудь из членов семьи приравнивался сразу и к смерти — родными, и к предательству родины — обществом. В 1979 году умерла Лена — мать младшего его сына Алеши, детская судьба которого невероятным образом повторяла его собственную.
Слово «нетрезвый» в названии Записок — слово-фантом, оно прежде всего провокативно.
Алкогольная составляющая здесь есть, но первое значение слова — неглавное. «Нетрезвый», конечно, означает легкую степень опьянения и порождает всю цепь «алкогольных» ассоциаций (выпивший, принявший на грудь, окосевший, под мухой и т. д.) и отсылает к одному из эпизодов ЗНЧ, где приписка в конце доноса «к тому же он был нетрезв» уберегла автора от куда более грозных идеологических обвинений, переключив внимание «судей» на то, что пил, с чем мешал водку и как это надо было бы делать…
У Володина простые и конкретные отношения с алкоголем. Водка — лекарство от душевной боли, имеющее сильное побочное действие. Это лекарство запускает механизм убийственной рефлексии, разъедающего самоедства, чувство вины, так хорошо знакомое каждому алкоголику… И никаких других концепций, никакого освобождения от внешних пут и внутренних уз. Импульс, порождавший творчество, у него был в другом: «ржа ест железо, а лжа — душу».
Слово «нетрезвый» имеет антоним «трезвый», у которого свой семантический ареал: рассудительный, расчетливый, рассудочный, здравомыслящий. Слово «нетрезвый» в определенной синтаксической позиции можно писать и раздельно: то есть, согласно словарным значениям, — не рассудительный, не расчетливый, не благоразумный, не практичный, не здравомыслящий человек. Именно такие качества личности предполагает володинское «нетрезвый». Кроме того, слово «нетрезвый» имеет еще один смысл, опосредованный поговоркой: «Что у трезвого на уме — у пьяного на языке», то есть «откровенный», «честный».
Поэтика «Записок нетрезвого…», при всей их внешней незатейливости, простоте (и даже «простоватости»), требует внимательного и адекватного прочтения.
В «Записках нетрезвого…» отсутствует сюжет, внешний сюжет.
Сюжет как событийно-хронологическая последовательность, как причинно-следственная вязь событий и обстоятельств уже сам по себе порождает систему координат, образует систему