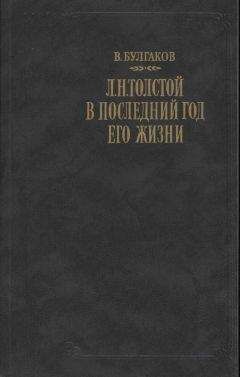Но лечить этот «больной» безумный мир Толстой пытался наивными способами. Непримиримый враг помещичье — капиталистического строя, гневный и смелый обличитель всех порядков Российской империи, он вместе с тем был решительным противником революционных методов борьбы, создателем утопического и религиозно — философского учения. В дневнике Булгакова мы не раз встречаем обычную для Толстого религиозную проповедь пассивного примирения с жизненными невзгодами и социальными бедствиями, недоверчивое отношение к революционерам как к людям ошибающимся и заблуждающимся. Революционным действиям он противопоставляет философию непротивления злу насилием, политической деятельности — воспитание новой человеческой личности, живущей по евангельскому принципу: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой», социалистическим идеям — новое религиозное мировоззрение.
Проблема общественного переустройства в концепции Толстого таким образом превращалась в чисто этическую проблему.[5]
Булгаков знакомит нас с автором «Воскресения» уже после того, как революционная гроза 1905 года положила конец «толстовщине» как историческому явлению. Россия продолжала находиться в состоянии революционного брожения, нарастания народного недовольства и возмущения. Толстой заносит в дневник горькие и трагические строки: «Страшно сказать, но что же делать, если это так, а именно, что со всем желанием жить только для души, для бога, перед многими и многими вопросами остаешься в сомнении, нерешительности» (т. 58, с. 65). Противоречия во взглядах Толстого росли и углублялись и становились все более кричащими и непримиримыми.
Призывая к аскетическому отречению от земных благ, отрицая революционные методы борьбы, Толстой в то же время с пристальным вниманием вслушивается в растущий гул народного гнева, приветствует проявление в народе социального самосознания. Когда М. А. Шмидт рассказала Толстому, как отзывался один знакомый ей крестьянин о прокучиваемых барами трудовых мужицких деньгах, «добывающихся потом и кровью», Толстой с искренним удовлетворением произнес: «Как в природе волшебство: была зима, и вот в каких‑нибудь три дня весна, — так и в народе такое же волшебство. Недавно не было ни одного мужика, который бы говорил такие речи, вот как вы рассказываете, а теперь все так думают».
Толстого радует то, что Россия пробуждается и крестьянство проникается все большей ненавистью к своим поработителям, что оно начинает требовать решительного изменения всех основ современного общественного устройства.
В самом Толстом жил мятежный дух борца, еще более усилившийся под влиянием перемен, которые совершались в сознании широких пластов народа. И этот дух не могли сломить и укротить ни его проповедь смирения, ни его учение о непротивлении злу. Толстой выступал с обличениями социальной неправды, несправедливости общественных отношений, остро реагировал на жестокости, совершаемые царским правительством. Не случайно Толстой, получив от своего находившегося в ссылке секретаря H. Н. Гусева письмо о том, что, прочтя «Бытовое явление» Короленко, «почувствовал, что не стоит жить, когда творятся такие ужасы», — он попросил Булгакова написать ему и возразить. «Вы напишите ему, — сказал Лев Николаевич, — что я не понимаю этого, что, по — моему, напротив, если узнаешь об этих ужасах, то захочется жить, потому что увидишь, что есть то, во имя чего можно жить». Мы слышим здесь голос автора «Не могу молчать», который не бежал от жизни, не мирился со злом, а вступал с ним в решительную и непримиримую борьбу. Вот почему Толстой так воодушевился, услышав весть о совершившейся в Португалии демократической революции. «В современных государствах, — заявил он, — неизбежны революции. Вот как в Португалии — все‑таки есть известная ступень… Нет раболепства, произвола личности». Слова высокого уважения и большой признательности в адрес Великой французской революции, которая в «политике идет впереди», также записаны Булгаковым.
Так сложность и трудность процесса революционного развития в стране, где основную массу населения составляло крестьянство, постепенно и мучительно изживавшее свою политическую незрелость, патриархальную ограниченность, нерешительность, преломлялись в мировоззрении Толстого в причудливом переплетении демократического, передового с наивным, иллюзорным. Дневник Булгакова подтверждает, что в Толстом на склоне дней не замолк протестующий, бунтарский дух, что, вопреки утверждаемой им философии, его сочувствие было на стороне поднимающихся против монархии и помещиков трудовых масс.
II
Толстой был натурой в высшей степени артистической и с детства испытывал настоятельную потребность дышать воздухом искусства. Верен ей оставался он и в преклонном возрасте, в чем нас убеждают записи Булгакова В яснополянском доме нередко домашними и заезжими исполнителями устраивались концерты, звучали мазурки, ноктюрны Шопена, сонаты Бетховена, Танеева, Аренского, пелись романсы Глинки, цыганские песни, создавали свои скульптурные портреты Паоло Трубецкой и сын писателя Лев, рисовала С. А. Толстая, устраивались любительские спектакли, наконец, читали стихи, повести, рассказы, романы, отечественные и иностранные. Из дневника «молодого друга», как называл Толстой своего секретаря, явствует, какой притягательной силой обладала для писателя музыка, как была она ему необходима и какое наслаждение доставляла ему игра А. Б. Гольденвейзера. Эти вечерние часы приносили усталому и измученному Толстому отдохновение от всего того, что угнетало и терзало его. Знаменательна вырвавшаяся у него после игры Гольденвейзера фраза: «Я должен сказать, что вся эта цивилизация — пусть она исчезнет к чертовой матери, но — музыку жалко».
К поэзии в целом Толстой относился скептически, ибо ему казалось, что «стихи своим размером и рифмой» мешают ей выполнять свое назначение «служить выражению мысли» (т. 82, с. 44), глубоко захватывать явления действительности. В то же время великий мастер сам воодушевлялся, слушая стихи ценимых им поэтов. «Лев Николаевич, — записано в дневнике, — цитирует стихи или говорит о них, при том всегда о Пушкине и Тютчеве, да еще Фете». А прослушав стихотворение «Silentium» Тютчева, он заметил: «Это — образец тех стихотворений, в которых каждое слово на месте».
Толстой и на склоне лет оставался неутомимым читателем, осведомленным о большинстве новинок современной литературы. Он был знаком с прозой Чехова и Куприна, Арцыбашева и Андреева, Горького и Вересаева, Ф. Сологуба и А. Белого, стихами Бальмонта, Брюсова, В. Иванова да и некоторых других.