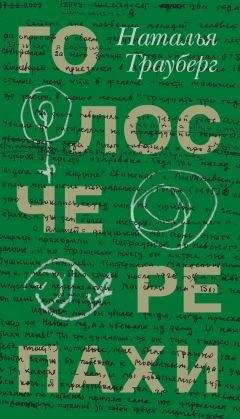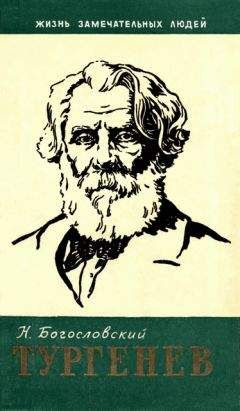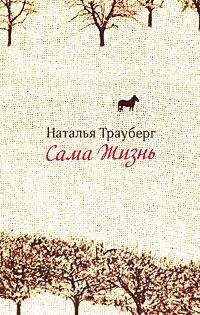Только детские книги[3]
Недавно в одном журнале печатались интервью, и среди вопросов были и «лучший писатель», и «незаслуженно прославленный». Лучшими оказывались исключительно те, от которых становится хуже. Незаслуженно прославленными, чаще всего – те, кто писал в манере XIX века. Прочитав все это, я вспомнила две притчи, конечно – происшедшие на самом деле.
Студенткой я мгновенно заболевала от Мопассана, и один старый филолог объяснил это тем, что у него нет неба, мир как бы под тяжелой крышкой. Стоит ли говорить, что у Пушкина, Шекспира, Толстого гораздо больше ужасов, чем у него, – а крышки нет?
Лет на двадцать позже один человек сказал жене, что если бы ее няня училась в университете, их литературные вкусы были бы уж совсем одинаковыми. Действительно, няня, скажем, не читала «Романа о розе» или Данте, Чосера, Спенсера, но они бы ей понравились. Вероятно, она бы не прочитала, даже в переводе, Торнтона Уайлдера или Чарльза Уильямса, тем более – Cocktail Party. Но охотно бы послушала и очень радовалась бы, если бы ей их рассказали.
Только я все это подумала, одна моя родственница, прочитав те же интервью, спросила себя, меня и ангелов: «Неужели они никогда не читают, обняв любимую кошку?» Вообще, в детских позициях, скажем – за едой, можно ли читать тех, кого назвали? Я бы не стала.
Но не в том суть. Наши души оставляют желать лучшего. Писатели вроде Драйзера камнем тянут их вниз, писатели типа Борхеса – раскорячивают, перебалтывают, да просто получается заворот души. Каким же смелым надо быть, чтобы не только читать их, но еще ими зачитываться!
Конечно, люди моего поколения, да и помоложе немедленно припомнят жуткие разговоры фашистского и большевистского рода – «здоровая» литература или «нездоровая». Но фашизм (во всех его видах, от франкизма до чисто бесовского нацизма) и большевизм, особенно переродившийся, имперский – антихристово добро в чистом виде. Как-то оно с христианским добром соотносится. Да нет, не «как-то»: к вполне резонным мыслям о здоровье души оно прибавляет вмешательство, жестокость, беспощадность – а тогда ничто не устоит, все станет беспримесным злом.
Ничего нельзя запрещать, но можно свидетельствовать, беря всю тяжесть на себя. Скажу еще, что здесь есть и Харибда – суррогаты «детских книг», но признаки у нее те же, что у Сциллы, обычные признаки зла – жестокость и фальшь.
Книги, которым радовалась бы няня, нельзя навязывать. Мало людей, которые хотят именно этого; если же они попадутся другим, те мгновенно уподобят Харибде что угодно (не это ли произошло с Льюисом?).
Но проповедовать – можно, взывать – можно, кто-то да услышит, и ему будет лучше.
Хорошо, услышит – и кого же он будет читать? Может ли взрослый человек радоваться Дороти Сэйерс, Честертону или даже Элиоту, когда тот проговорится, и окажется не грозно-высоколобым, а Бог знает каким? Остановлю себя, чтобы не угодить в порочный круг: пока «взрослый» – не может, именно эти книги могли бы его пробить, но… и так далее. Тайны обращения мы толком не знаем. У Льюиса – мегафон боли, у Честертона – мегафон радости, но Бог так деликатен, что мегафоном вряд ли пользуется. Отойдем от этой тайны, вернемся к книгам.
Та самая няня, о которой шла речь, делила людей на «тихих» и «важных»[4]. Честертон и Дороти Сэйерс несомненно оказались бы тихими, хотя ели, выпивали, толстели, очень много смеялись, а Дороти даже трогательно хулиганила. Что ж, мы, как льюисовский паломник, вернулись к тому, что могли бы просто увидеть в Евангелии, там такое деление – по всей книге. Мракобесам это и положено: у нормальных людей – Борхес и Кортасар, а у нас – для слабоумных. Но нет! Возникли невероятно мучительные гибриды. Слава Богу, умные high-brow, скептичные, невредные – их не пишут и не любят. Но сейчас очень много церковного народу, который служит этому господину с большим усердием. Уж лучше любили бы стихи Соловьева (не прозу, а стихи, все-таки, мягко выражаясь – слабые). Да нет, что я! Ударятся как следует в духовность, все примут, и эти стихи, и диких гибридов.
А вообще-то, слава Богу, что Честертон или Дороти Сэйерс не могут пойти в стебель! Так гнали и пророков, так гнали пророков, так смеются над детьми.
Глава II
Честертон и другие
Англичане и американцы уже около десяти лет издают собрание сочинений Честертона. Вообще это у них не принято, такие многотомники дорого обходятся и плохо раскупаются. Мало того, когда издание начиналось, Честертон то ли терял, то ли давно потерял популярность. Перепечатывались его детективные рассказы, главным образом, про отца Брауна, и «Человек, который был Четвергом», все – маленькими книжками в мягких обложках. Однако несколько человек решились на совершенно дикое предприятие, даже не зная заранее, сколько у них выйдет томов. Это и сейчас не совсем ясно, а вот интерес к Честертону за прошедшие годы вырос.
Честертон говорил чистую правду – он действительно относился всерьез не к себе, а только к тому, во что верил. С редким для писателя смирением, – не в сусальном, а в истинном значении этого слова, – он не заводил архивов и не трясся над рукописями. Однако в Божий замысел, видимо, такие потери не входили – мать, жена и секретарша с детства до самой смерти подбирали выброшенные им бумажки и альбомы. Кто-то из них сложил в сундук множество книжечек, исписанных вкривь и вкось и копившихся с конца 80-х годов XIX века до 1936 года, и прикрыл докторскими мантиями, которые Честертон вместе со степенью получал honoris causa в нескольких университетах. Жена ненадолго пережила его, а секретарша, Дороти Коллинс, которую бездетные Честертоны считали приемной дочерью, так и осталась в их доме неподалеку от Лондона на 53 года. То ли она забыла про эти книжки, то ли не сумела их разобрать, но ученые добрались до них еще через несколько лет, когда архив претерпел ряд приключений и оказался в Оксфорде.
Теперь вокруг него сложился институт, умещающийся в одной комнате, плюс комнаты и столы всех тех, кто занимается Честертоном. Англо-американское собрание складывается из того, что печаталось (тоже немало), того, что содержится в бумагах и книжечках, и, наконец, того, что ученым удается разыскать в старых журналах. Так набралось больше пяти тысяч эссе. Открыты неизвестные стихи (их выпустил и прокомментировал пылко преданный Честертону Эйдан Мэкки, которому уже лет восемьдесят). Толстый том неизвестных рассказов и сказок (800 страниц) собрал и издал американец Денис Конлон.
Законченного там мало – шесть сказок, девять рассказов и несколько крохотных притч, которые, собственно говоря, вполне известны, но могли не восприниматься как рассказы, потому что напечатаны в сборнике эссе «Потрясающие пустяки» (1909). Некоторые из них ходили у нее в Самиздате, а позже были напечатаны: «Любитель Диккенса», «Лавка призраков», «Современный Скрудж» и «Как я нашел сверхчеловека» (остается два, всего их шесть). Скажем сразу, что эти рассказики и много другое уже переведено, частично напечатано в журналах и готовится к изданию в трех издательствах.