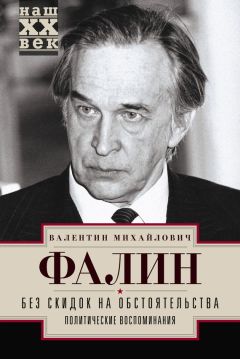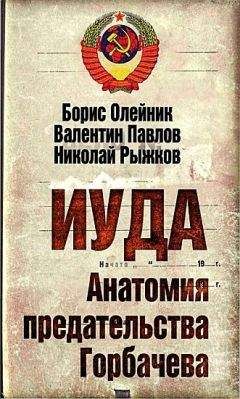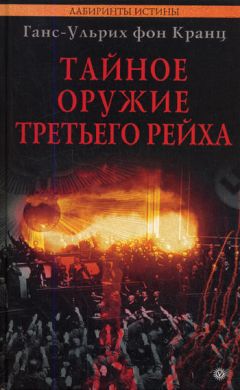Как наловчились мы рассуждать о естественных правах человека, ставя в нужном месте точку и выводя за скобку их же естественные пределы, позволяющие другим членам общества пользоваться одинаковыми свободами. Оглянитесь вокруг, почти никто с открытым забралом не бросается на политическую справедливость. Почему же ее как не было, так и нет? Хотя со времен Аристотеля известно, что она достижима. При некоторых предпосылках. Справедливость «возможна, – учил философ, – лишь между свободными и равными людьми, а гражданин – это тот, кто столько же властвует, сколько и подчиняется власти».
И последнее. Узелков для памяти я не вязал. А если бы попутала страсть стяжательства «будущих разоблачений» и свидетельств человеческих несовершенств, чужих понятно, то, скорее всего, эту гремучую смесь постигла бы та же судьба, что и мой численник. В нем отражались, повторюсь, даты встреч с иностранными деятелями и соотечественниками за последние тридцать лет. Имена и числа. Сотни и тысячи имен. Ничего больше. Численник пропал в августовские дни 1991 г. Мало что говорящий постороннему, он значил для меня не меньше, чем нотные знаки в партитуре для музыканта. Где он, этот численник, что с его использованием разыгрывается?
Крайне урезанными будут возможности воспроизвести тексты телеграмм, писем, докладных записок. Лично я не слишком высокого мнения о мемуарах, сшитых из документальных лоскутков, которые тщательно отбираются по рисунку и цвету, нередко выворачиваются наизнанку в угоду насущному интересу. Но для перепроверки метаморфоз собственных оценок, которые, разумеется, не враз сложились в систему взглядов, они не были бы лишними.
Придется, стало быть, полагаться в основном на память. При всех несовершенствах этот инструмент обладает и некоторыми преимуществами – он более искренен, чем любая протокольная запись, спрессовывающая многочасовой диалог в пару сухих страниц и выпячивающая какую-то грань, которая представлялась утилитарно важной в момент самой беседы и сбрасывающей в небытие детали, возможно служившие прибежищем дьяволу или, напротив, дарившие уникальный, неповторимый шанс.
Как совместить величины несочетаемого порядка, не смешать краски в тусклое бесконтурное пятно, не поддаться искусу нарисовать политическую реплику «Черного квадрата» художника Казимира Малевича, только еще темнее? «Единственная форма, в которой мы можем выразить свое уважение к читателю, – вера в его ум и душевное благородство», – заметил однажды драматург Бертольт Брехт.
Попробуем в меру сил последовать этому доброму совету.
С чего начать повествование? Ведь так и подмывает позаимствовать у А. С. Пушкина – «…и с отвращением читая жизнь мою». На что истрачены безвозвратно силы и годы? Не все и не всегда зависело от тебя. Верно. Обстоятельства, в которые ты попадал или сам загонял себя, могли быть сильнее. Тоже факт. Но, положа руку на сердце, разве тебе наглухо была закрыта возможность учинить вселенский скандал системе, когда она попирала здравый смысл и мораль? Почему же ты довольствовался спорами с ее апостолами и полагал, что, не сдавая собственного мнения, исполняешь свой долг?
Толстовская триада «кто ты, что ты, зачем ты», сколько помню себя, не давала покоя. Политику не почитал за призвание свое и чаще тяготился ею. Будь мне дано прожить жизнь заново, держался бы я на почтительном расстоянии от племени, кичащегося присвоенным правом повелевать миллионами людей, вершить за других, знать, в чем должно заключаться их счастье и несчастье.
Вполне может быть, что в науке или искусстве, к которым тянулась моя душа, я затерялся бы среди многих равных. Зато вне политики несказанно проще оставаться в ладах с собственной совестью и в час заката не доискиваться оправданий, ради чего ты существовал на свете и кому-то умышленно или ненароком преступил дорогу.
Друзья подтвердят – эти мои мысли знакомы им издавна, они не рефлекс на события последних лет, круто повернувшие также и мою личную судьбу. Остается сожалеть, что сомнения и размышления не отлились ко времени в решимость подвести черту под одной жизнью, чтобы начать другую, а надежды, что, всем разочарованиям вопреки, общество социальной, национальной, человеческой справедливости достижимо, что гражданин не из-под палки, а по велению разума может стать добрым соседом, даже другом, не теряя при этом собственного лица, побуждали ко все новым и новым повторам официальных догм.
В свое извинение нам нередко говорят – один в поле не воин или одна ласточка весны не делает. Но позволительно взглянуть на это и иначе. Без ласточки весны тоже не бывает, и один воин способен решить исход целой кампании, стань его энергия и самоотверженность той каплей, что склонит чашу весов. Выжидать, пока кто-то другой попотеет и рискнет, и постараться не запоздать к сбору урожая с чужих мыслей и усилий? Обычай распространенный. Он в арсенале и у тех, кто не упустит случая сослаться на И. Канта и его завет – каждый должен действовать так, как если бы он был в ответе за все человечество.
Перебора иллюзий не было у меня. Опыт жизни никак не способствовал тому, чтобы забылся горький сарказм русского юриста А. Ф. Кони: «…в Отечестве нашем, богатом возможностями и бедном действительностью…» Разве что в первичной фазе перестройки я изменил себе.
Моя мать на дух не переносила М. С. Горбачева, поэтому, видно, к ее телефонному аппарату, как выяснилось позже, пристроили прибор для подслушивания. Я пытался безуспешно переубедить родительницу, доказать ей, что новый лидер обладает задатками для возрождения страны. Жизнь матери оборвалась практически день в день с панихидой по Советскому Союзу. Она видела все и сопереживала, но не припомнила мне моего заблуждения. Скорее простила.
Никто из нас внутренне не свободен настолько, чтобы подняться над средой и тем более над собой. Истина в обыденном понимании – чаще всего то, во что хочется верить. Или что мы приучены почитать за истину. В политике это проявляется весьма контрастно. Жизнь каждого вступающего на политический паркет как бы расщепляется, обретает грани с различной конфигурацией и светопреломлением.
Настоящий политик, как и ученый, не может не быть человеком противоречий, то есть постоянно ищущим, опровергающим, не в последнюю очередь самого себя, допускающим и выдвигающим альтернативы. И в политике самые лучшие мысли – незаконнорожденные, не приседающие в тишайшем поклоне перед так называемыми «классиками», или, на британский манер, «авторитетами». Повторенная мысль может стать постепенно убеждением. Что и случилось в 70–80-х гг. Упустили, правда, позаботиться о предотвращении того, чтобы убеждения за отсутствием дел не выродились в слова.