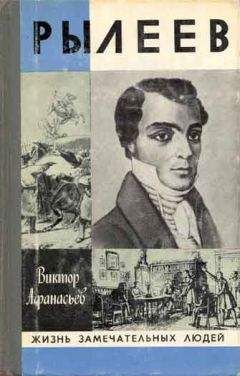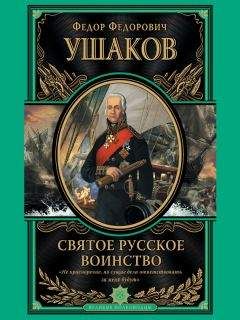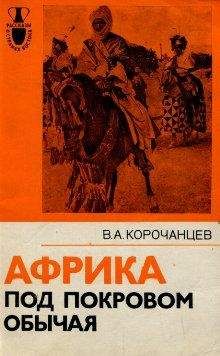Немецкая писательница Фанни Тарнов, побывавшая в Петербурге, сообщала в своей книге о России: «Одна светская петербургская дама с благонравным ужасом заявила мне, что она не прочла ни одной строчки, написанной Клингером. Его произведения считаются богохульными и пользуются слишком дурной славой, чтобы она отважилась их прочитать».
Клингер был, конечно, выдающийся, замечательный человек. Но в России он вынужден был вести как бы Двойную жизнь: Клингер-генерал был на виду, Клингер-писатель скрыт от окружающих. В России были запрещены все его лучшие романы — «Жизнь Фауста, его Деяния и гибель в аду», «История Рафаэля де Аквилья», «Путешествия до Потопа», «История современного немца» и «Светский человек и поэт».
В своих «Наблюдениях и размышлениях» Клингер так охарактеризовал эпоху, сменившую «дней Александровых прекрасное начало»: «Всё для глаз, всё для уха! Для первого — роскошные церемонии, для второго — звучные слова без политического смысла. А для языка — решетка, для ума — грозный, страшный надсмотрщик».
В 1816 году Клингер был лишен должности по министерству просвещения. Карамзин писал по этому поводу Дмитриеву: «Клингер уволен, мне сказывали, что он считается вольномыслящим».
В 1820 году Клингер был отставлен от всех должностей, в том числе и от директорства в кадетском корпусе.
В России Клингер звался Федором Ивановичем. В кадетском корпусе, в течение своего двадцатилетнего начальствования, он мало занимался делами, в классах появлялся редко, — весь поглощенный литературным творчеством, вел жизнь замкнутую, по большей части сидел в своем кабинете и писал. Изредка выходил в сад, развлекался со своими собаками, заставляя их прыгать через палку. Он был неразговорчив, медлителен и не выносил шума. Декабрист Розен, учившийся в корпусе в 1810-х годах, вспоминал, как он, будучи дежурным по корпусу, подавал перед пробитием вечерней зори рапорт Клингеру: «Строго было приказано входить к нему без доклада, осторожно, без шуму отпирать и запирать за собою двери, коих было до полудюжины до его кабинета. Всякий раз заставал его с трубкой с длинным чубуком, в белом халате с колпаком, полулежачего в вольтеровских креслах, с закинутым пупитером и с пером в руке… Бывало, медленно повернет голову, выслушает рапорт, кивнет головой и продолжает писать».
За этот белый халат и за медлительность кадеты прозвали Клингера Белым Медведем. Он умер в 1831 году, в возрасте 79 лет.
Возле кадет повседневно, почти неотлучно находились преподаватели-офицеры.
Среди них — инспектор классов Михаил Степанович Перский, участник суворовских походов, который посвящал кадетам все свое время. Четыре раза в день он обходил все классы важной, величавой походкой, одетый всегда тщательно и даже изящно. Посидит в классе, послушает и идет в другой. Был он холост и жил на квартире в корпусе совершенным монахом, почти не выходя из стен училища. Обед приносили из общего кадетского котла.
С особенной любовью относился к кадетам добрейший человек — эконом Андрей Петрович Бобров, имевший чин бригадира. Он по-старинному носил косицу и был одет в засаленный до крайности мундир, в котором он и с поварами бранился на кухне, и представлялся высшему начальству, в том числе и самому императору. Бобров ведал продовольствием и одеждой кадет, сумма расходов по этим статьям простиралась до шестисот тысяч ежегодно, но к рукам эконома не только ничего не прилипало из этого богатства — он и все свои деньги тратил на кадет. Каждому более или менее «недостаточному» кадету-выпускнику он собирал на свои средства «приданое»: три перемены белья, две столовые и четыре чайные серебряные ложки. Вручая все это покидающему стены корпуса кадету, он говорил: «Когда товарищ зайдет, чтобы было у тебя чем дать щей хлебнуть, а к чаю могут зайти двое и трое — так вот чтобы было чем». Кадеты, звавшие его за глаза Старым Бобром, платили ему искренней привязанностью. Им трудно было представить себе корпус без его низенькой и довольно плотной фигуры в старом мундирном сюртуке. Они привыкли и к его хромому псу, всегда таскавшемуся за ним. Бобров не упускал случая утешить наказанного кадета. Напустит на себя сердитый вид, подзовет его, словно для какого-нибудь выговора, а сам погладит его по голове, сунет в руки гостинец и тут же отпихнет: «Пошел, пошел, мошенник!»
Доктор Зеленский, заведовавший корпусным лазаретом, тоже был чудак и добрая душа. Он жил в комнатах при лазарете и строжайше следил, чтобы фельдшера и прислуга выполняли его указания. Не дай бог фельдшеру задремать возле больного — неизбежно являлся доктор и наказывал провинившегося тут же «отеческой» Рукой. Он следил и за температурой в классах — если на градуснике было меньше 13 или больше 15 градусов, немедленное наказание в виде зуботычины следовало истопнику. Пищу он ел только кадетскую, так что и тут у него было строгое наблюдение. Причем ел не дома, а вместе с кадетами за общим столом. Кадет, приготовлявшихся к выпуску из корпуса, он записывал больными и. клал в лазарет для отдыха, вместо лекарств он давал им интересные книги. А больным кадетам не хотелось выходить из лазарета. Они делали страдальческие физиономии, чтобы разжалобить доктора и остаться хотя бы еще на денек. Заметив это, Зеленский говорил: «Гримасы не делать и стоять предо мной как пред Иисусом Христом! Бог, Ломоносов и я! Возьму за пульс — все узнаю, о чем думаешь — узнаю!» Это были шутки. Многих «страдальцев» он охотно оставлял в лазарете.
Среди преподавателей корпуса был известный в то время писатель-историк, грек по происхождению, Гавриил Васильевич Гераков (1776–1838), по поводу книги которого «Твердость духа русских. Героини славянского племени», изданной в 1813–1814 годах, Денис Давыдов написал стихотворение:
Гераков! прочитал твое я сочиненье,
Оно утешило мое уединенье;
Я несколько часов им душу восхищал;
Приятно видеть в нем, что сердцу благородно,
Что пылкий дух любви к отечеству внушал, —
Ты чтишь отечество, и русскому то сродно:
Он ею славу, честь, бессмертие достал.
«Пузатый, лысый, небольшой», как сказал о нем в одном из стихотворений 1814 года Рылеев, Гераков, несмотря на свою неблагообразность, умел зажечь в своих слушателях патриотический энтузиазм; рассказывая о Святославе, Михаиле Черниговском, Минине и Пожарском, он так преображался, что сам казался кадетам то древним князем, то богатырем… Среди кадет пользовалось известностью историческое сочинение Геракова «Герои русские за 400 лет».