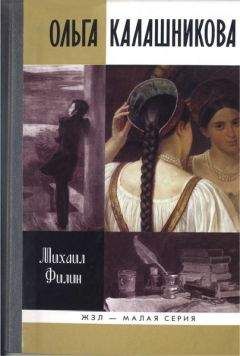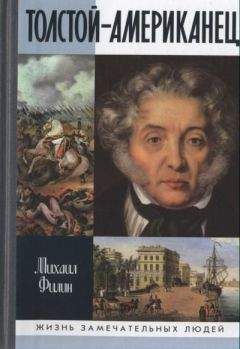В начале декабря 1794 года полковник Раевский испросил у высшего начальства полугодовой отпуск и отправился в Петербург «по законной нужде». Пришло время обзаводиться семейством, и избранницей героя раз и навсегда стала «брюнетка с большими черными глазами и лебединой шеей» — девица Софья Алексеевна Константинова (1769–1844), внучка великого Ломоносова и дочь коллежского советника А. А. Константинова, библиотекаря императрицы Екатерины II. В огромном семейном архиве Раевских не сохранилось никаких сведений о знакомстве Николая Николаевича со своей будущей супругой и о его сватовстве; нет среди старых бумаг и данных о точной дате бракосочетания офицера. Можно предположить, что это достопамятное событие произошло в самом начале 1795 года[12].
Более тридцати лет прожил Раевский со своей женой и, несмотря на определенные сложности взаимоотношений, всегда относился к Софье Алексеевне заботливо, с теплым и непреходящим чувством. Ярким тому свидетельством были его письма, в первую очередь те, что адресовались дядюшке — графу и екатерининскому генерал-прокурору А. Н. Самойлову. Так, 19 февраля 1804 года племянник простодушно признавался, что он «нетерпелив видеть жену и детей»[13]. В другом послании Раевский был еще откровеннее: «Опасная болезнь Софьи Алексеевны удерживает меня здесь, и с сердцем и с долгом моим сходно, чтобы бросить все мои дела другие и иметь о ней попечение»[14]. Таких красноречивых эпистолий, написанных в разные периоды жизни, накопилось немало.
Вышло так, что Софья Алексеевна Раевская, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины 2-го класса, надолго пережила своего прославленного мужа. Она скончалась 16 декабря 1844 года в Риме и была похоронена на местном кладбище Тэстачо. По сообщению внука, вернувшаяся из Сибири Мария Волконская, проводя зимы 1859 и 1860 годов в Европе, разыскала в Вечном городе могилу матери и поклонилась ее праху[15]…
Уже в июне 1795 года молодой супруг Раевский возвратился в полковую штаб-квартиру, расположенную тогда в Георгиевске. В последующие два года он командовал Нижегородским драгунским полком, который стал ему родным, и участвовал в военных действиях против Персии (в частности, был в первых колоннах войск, бравших Дербент).
В ту же пору в северной столице грянули события поистине чрезвычайные: скончалась Екатерина II и на престол вступил ее сын, император Павел I. Тотчас наступила памятная эпоха взбалмошного идеализма — эпоха импровизаций, непредсказуемых и труднообъяснимых распоряжений, взлетов и падений, зависевших единственно от колебаний августейшего настроения. Довелось стать жертвой гнева «романтического императора» и неискушенному в интригах Раевскому, который прежде неоднократно критически высказывался по адресу важных персон. А те не забыли сарказмов, вернули долг с большими процентами, и 10 мая 1797 года выскочка был исключен из службы (по некоторым сведениям, недоброжелатели, опасаясь дальнейшего возвышения талантливого и остроумного смельчака, умело оклеветали его перед царем). Почти четыре года униженный полковник вел тихую частную жизнь, пребывая преимущественно в своих сельских владениях. Однако чувствительное поражение не сломило его, не превратило в обыденного паркетного карьериста.
Семейство его тем временем множилось: стали исправно рождаться дети.
16 ноября 1795 года появился на свет Александр Николаевич Раевский (1795–1868), которому также суждено было оставить след в отечественных летописях. Был он человеком необычайных способностей, что отмечали многие, в их числе и Пушкин: «Старший сын его (H. Н. Раевского. — М. Ф.) будет более нежели известен» (XIII, 19).
Однако реализовать себя в полной мере Александр так и не сумел — вернее, не захотел. Воспитанник Благородного пансиона при Московском университете, он участвовал в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах русской армии, позднее стал полковником Ряжского пехотного полка, но в октябре 1824 года вышел в отставку. После декабрьского бунта он попал под подозрение, его арестовали, но вскоре выпустили с оправдательным аттестатом и сделали камергером. Затем Раевский состоял чиновником по особым поручениям при новороссийском генерал-губернаторе графе М. С. Воронцове и вел себя так, что по требованию последнего был выслан из Одессы в Полтаву без права будущего проживания в столицах. С некоторых пор жизнь Александра превратилась в вереницу экстравагантных, а то и скандальных происшествий, свидетелем которых подчас были даже члены императорской семьи.
29 июня 1832 года начальник III Отделения граф A. X. Бенкендорф писал С. А. Раевской, которая ходатайствовала о набедокурившем сыне:
«Милостивая государыня Софья Алексеевна! На почтеннейшее письмо Вашего высокопревосходительства от 17 апреля сего года, коим Вы, милостивая государыня, изъявляете желание Ваше, дабы сыну Вашему Александру разрешен был приезд в столицы, имею честь Вашему высокопревосходительству ответствовать, что я, уважая знаменитые заслуги покойного супруга Вашего и отличную службу Вашего второго сына, всегда обязанностию моею почитаю содействовать, по возможности, в исполнении желаний Ваших и потому крайне сожалею, что в настоящем случае по обстоятельствам лишен удовольствия сделать Вам угодное.
Сын Ваш Александр, как известно Вашему высокопревосходительству, позволил себе дерзкий поступок в присутствии самой Государыни Императрицы и тем произвел даже Ее Величеству беспокойство. За таковым действием его, уже неприлично бы было, как Вы, милостивая государыня, конечно, сами изволите со мною согласиться, появление его в столицах, где легко бы могло ему случиться встретить Государыню Императрицу и тем возобновить неприятное впечатление, произведенное им на Ее Величество. По сим уважениям и за последовавшим уже Вашему сыну всемилостивейшим разрешением проживать, где он желает, кроме столиц, я не считаю приличным и не осмеливаюсь ходатайствовать у Государя Императора о дозволении ему въезда в оные»[16].
Отец, некогда мечтавший о том, что Александр станет достойным его продолжателем, видел причину всех бед сына в его несносном характере и писал дочери: «С Александром живу в мире, но как он холоден! Я ищу в нем проявления любви, чувствительности и не нахожу их. Он не рассуждает, а спорит, и чем более он неправ, тем его тон становится неприятнее, даже до грубости. Мы условились с ним никогда не вступать ни в споры, ни в отвлеченную беседу. Не то чтобы я был им недоволен, но я не вижу с его стороны сердечного отношения. Что делать! таков уж его характер, и нельзя ставить ему это в вину. У него ум наизнанку; он философствует о вещах, которых не понимает, и так мудрит, что всякий смысл испаряется. <…> Я думаю, что он не верит в любовь, так как сам ее не испытывает и не старается ее внушить»[17].