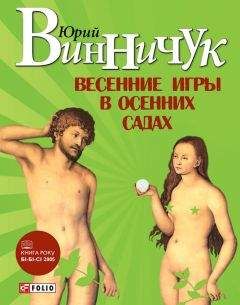Низко-низко опустив голову, шел он этим крестным путем, сквозь дым и гарь, и женщины у колодцев провожали его долгим прощальным взглядом. Ничего не говорили женщины, не кричали, не плакали и рук не заламывали над головой, только молча смотрели вслед, но глаза их, сухие и горькие, жгли Куликову душу, словно он был всему виной.
Да, он был всему виной, и на нем была великая вина перед народом, потому что он плохо дрался. И, когда вышла неустойка и часть попала в окружение, он тоже, как некоторые другие, боя не приняв, бросил винтовку и побежал куда глаза глядят. И три ночи после этого пролежал он с товарищем в кукурузе, пока голод не выгнал их на дорогу.
И, когда вышли они из кукурузы, босые, рваные, безоружные, вокруг них и на много верст вперед уже стояли столбы дыма, горели сахарные заводы, мельницы, села; а у дороги висели повешенные колхозники, их синие ноги качались над травой.
Много дней и ночей шел Куликов с товарищем по разоренной земле, выпрашивая хлеб в селах и прячась от немецких патрулей, - и всё не могли выйти к своим. И однажды товарищ, не выдержав, сел на камень у дороги и, показывая на свои окровавленные ноги, сказал:
- Никуда не пойду больше. Все одно - пропала Расея.
Куликов ничего не ответил, постоял немного, подумал и, не оглядываясь, пошел дальше один.
Он не знал, что сталось с Россией, и где теперь наши, и как далеко шагнул немец, но смутно чувствовал он всем существом своим: пропасть Россия не может. И более отчетливо: надо пробираться к своим. И брел.
С большой дороги он давно ушел, брел проселками, лесными тропами, полевыми дорожками промеж; высоких подсолнухов, селений избегал и только в сумерки появлялся где-нибудь на хуторах и робко стучал в окошко крайней избы. Только б не нарваться на немцев, а у русского человека всегда найдется для него кусок хлеба с солью да пук соломы.
Так однажды, в полдень, попал он на выселки, и голод загнал его в хату. Он постучал. Выглянула молодайка, красивая, теплая, рослая баба. Она сперва испугалась его: страшен он теперь стал, бородатый и нечесаный, а потом ввела в хату, усадила за стол, а сама заметалась по комнате от печи к столу, от стола к каморке.
И пока он ел - сперва жадно, торопясь, а потом, насытившись и вспомнив деревенский обычай, медленно и степенно, как в гостях, - она рассказала ему, что сюда немцы еще не заглядывали, но у людей страху много; все под страхом ходят, и жизни никакой нет. А он хлебал молоко, слушал ее бабьи жалобы, вдовьи тревоги и сочувственно кивал головой, потому что действительно на войне горше всего от фашистов приходится курице и бабе: курицу - в котел, бабу - на поруганье.
Насытившись, он вытер рот рукавом, глянул в окно - солнце еще было высоко в небе - и сказал, кланяясь:
- Спасибо, хозяюшка. Теперь я пойду.
Но она посмотрела на его окровавленные ноги и покачала головой:
- Куда ты пойдешь? Не дойти тебе, - и, опустив глаза в половицы, тихо, словно самой себя стыдясь, докончила: - Оставайся здесь. Живи. Мужика у меня нет, а без мужчины бабе плохо. Хозяйство валится...
Он потоптался на месте - тепло, хорошо было в избе, еще сытно пахло борщом и спелыми яблоками из каморки, на дощатом полу сладко умирали травы не то мята, не то чебрец...
- Хорошо, - тихо ответил он.
В сумерки, когда хозяйка пошла доить корову, он вышел из хаты покурить на крыльцо. Свою бороду он теперь расчесал, а белье сменил, - баба дала мужнино. Покуривая, он стоял на крыльце и оглядывал двор. Он заметил, что двор хозяйственный, а огород большой. "Ишь, капуста какая... серебряная!" умиленно подумал он. И тут же: "А плетень чинить надо". И не было вокруг ни войны, ни смерти, ни крови.
Он пошел по двору, ступал медленно, важно, как хозяин. Трогал рукой вещи, все знакомые, все привычные. "Траву косить надо!" Он потрогал рукой косу. И сразу окружил его привычный крестьянский мир, и пахнуло теплом из хлева, и сладко заныло сердце, и зачесались руки работника...
Эту ночь он спал на перине, чистый, сытый, в чужом и чистом белье. Сонно и счастливо дышала молодайка и улыбалась во сне своему случайному бабьему счастью. А Алексей не спал. Не спалось ему на подушках - то ли душно в избе, то ли травы на полу умирают беспокойно, чебрец или мята, и запах их бередит душу...
Вспоминались Алексею дом, и жена, и дети, и товарищи, - которые уцелели из них! - и тощие пензенские поля - песок и суглинок, и рыжий старшина роты, как он, бывало, все ворчал: "Едоков в роте много - вояк, погляжу, мало", - и виселицы на перекрестке дорог, и синие ноги над травой - "а я тут лежу на чужой перине, прохлаждаюсь", - и дым над полями и селами, как горела земля и становилась черной, сморщенной, горькой... Никогда теперь не уснуть спокойно Алексею Куликову, пока горит родная земля.
Тихо встал он с перины - хозяйку бы не разбудить! - тихо оделся, постоял у двери. Прошептал: "Спасибо, хозяюшка. Не осуди!" - и, махнув рукой, вышел.
И когда вышел на свежий ветер, стало на душе его легко и вольно.
И опять была перед ним дорога в дыму и крови - крестный путь русского народа. И опять он шел через дымящиеся села, мимо пепелищ и виселиц, и горькие слезы женщин падали в его душу, младенческий крик звенел в его ушах, - этого предсмертного крика ему никогда не забыть.
Он был честный и мудрый, справедливый мужик, простой души и чистой совести. Он привык во всем разбираться медленно и осторожно, любил всех выслушать, чтоб всех понять и никого не обидеть. И когда он видел пожары и трупы, он понимал - это война, про это и деды рассказывали. Но детей, детей за что? Он стоял над детским трупиком, над беленькой девочкой, которую так, походя, пристрелил фашист, и не понимал: зачем? за что? И думал: "Вот и мою Анютку, доведись, так же..."
В другой раз он увидел, как грабят немцы кооператив, напихивают в танки ящики, бочки, мануфактуру... И вдруг вспомнилось Куликову, как, бывало, после хлебосдачи приходил он в сельпо и, облокотившись на прилавок, начинал с продавцом Иваном Родионовым серьезный разговор. Иван Родионов надевал на этот случай очки в жестяной оправе и доставал из-под прилавка тетрадь заказов, а Куликов говорил ему, что затеял он к зиме новую шубу построить, а хозяйке понадобится маркизет, а сынишка пойдет в школу, стало быть валеночки...
- За маркизет не ручаюсь, - озабоченно отвечал Иван Родионов, - но что будет, по силе возможности...
Вот теперь тащат немцы маркизет, сукна, валенки. Они разбили двери, сломали замки, разворотили полки... И опять не понимал Куликов: "По какому праву? Ведь это же наше, мое добро..."
Раз проходил он мимо разбитого немцами родильного дома. Не с руки ему было, а зашел. Словно силой какой потянуло. Были выбиты в доме все стекла, и мебель переломана, и на полу солома, навоз и грязь. Через все палаты прошел Куликов, и лицо его было каменным, а глаза сухими. А в одной палате не выдержал - уронил слезу. Детские кровати тут были. Беленькие, махонькие, кроватки для новорожденных.