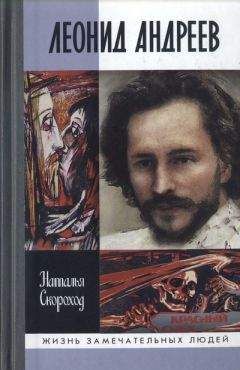Орловский дом не раз появится на страницах андреевских рассказов и пьес. Начинаясь в уютных, чистых, провинциально обставленных комнатах: венские стулья, комод, стол, еще один — обеденный большой, оклад с иконами; «у окон много зимних цветов, среди коих фуксия и уже зацветшая герань», пространство не было замкнуто. «Одно окно выходит в стеклянный коридор, идущий вдоль всего дома и кончающийся парадным крыльцом; другие четыре окна выходят на улицу — немощеную, тихую улицу, с большими садами и маленькими мещанскими домишками», оно выводило мальчика на просторы сада, где «…в осенние темные ночи их ровный гул наполнял всю землю и давал чувство такой шири, словно стен не было совсем и от самой постели, в темноте, начиналась огромная Россия».
С годами это «чувство пространства», принципиальность окружающей среды обнаруживались все более явно, подчас — доходили до мании. Как человек, часто меняющий адреса, повзрослевший Андреев приобрел придирчивость по отношению к месту обитания, оставляя иронический, саркастический или же восторженно-романтический его «портрет» в письмах и дневниках; как художник сделал пространство своим непременным союзником. Сколь условным образом ни строилось бы, например, действие его пьес, автор всегда погружал героев в подробно описанное и насыщенное смыслом сценическое пространство: будь то «внутренность завода», «великолепная, чрезвычайно богатая зала», «мещанское жилище» или же «подобие большой, правильно четырехугольной, совершенно пустой комнаты, не имеющей ни двери, ни окон».
Самому Леониду посчастливилось пройти первое действие собственной человеческой жизни среди чудных, милых сердцу, гармоничных и соразмерных человеческим ощущениям «декораций»: «Летом город замирал от зноя и был тих, мечтателен и блаженно недвижим, как отдыхающий турок; зимой же его покрывала густая пелена снега, пушистого, белого, мертвенно-прекрасного…» Интересно, что Пушкарная слобода в Орле — место, где рос и взрослел наш герой, — сохранила свой облик и по сей день, и случайно забредший сюда зимой в начале XXI столетия путешественник увидит приблизительно ту же картину, что и пятилетний Леонид Андреев в последней трети XIX: «Целые кварталы составляли старые одноэтажные дома с воротами, крылечками, резными наличниками, ставнями, которые закрываются на ночь и открываются утром. Дома, которые соразмерны тебе, не загораживают небо, в которых живут, как кажется, не безликие квартиросъемщики, а хозяева, семьи, личности. Дома, которые готовы вступить в диалог — вот в окошках, между стекол, на вате лежат елочные игрушки, а в других — стоят фарфоровые птички перед чашечками с бусинками»[2].
Как уже говорилось, наш ребенок придавал пейзажу огромное значение, он не только смотрел, но и вслушивался в природу: «Дерево, бывшее в двух шагах от меня, было видно еще отчетливее и яснее, чем днем, но уже тотчас за ним начиналась тьма, призраками делала следующие деревья, а в окне уже горел спокойный теплый огонь, и звуки один за другим одиноко падали на землю и быстро, без тени и содроганий, угасали. И я старался понять значение и смысл таинственных звуков, и мое ребячье сердце видело в них ответ на что-то такое, что еще не ясно было мне самому, что еще только зарождалось в глубинах души», — картины и звуки детства настолько прочно застряли в памяти, что и через 30 лет с легкостью были оттуда извлечены и легли на страницы «Писем о театре». Что ж, узнавание все новых и новых мест, разнообразные, подчас рискованные опыты с пространством составляли значительную часть жизни этого ловкого, смелого, частенько предоставленного себе самому ребенка.
А вот игрушки, кажется, не оказали на этого мальчика особого воздействия. «Это были жалкие картонные лошадки на прямых, толстых ногах, петрушка в красном колпаке с носатой, глупо ухмыляющейся физиономией и тонкие оловянные солдатики, поднявшие одну ногу и навеки замершие в этой позе» — так — почти брезгливо — относится к игрушкам герой андреевского рассказа «Валя». Эти гуттаперчевые и деревянные фигурки так и остались куском материи, эти мертвые, грубо сработанные муляжи живых и страдающих существ не задержались в мире будущего писателя, его воображение не зажглось гофмановским огнем…
Из всех детей и подростков лишь андреевский Сашка сгорает от любви к елочной игрушке: «восковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще темных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь». И хотя Андреев «отдал» Сашке эпизод из собственной биографии — восьмилетний Ленуша действительно влюбился в восковую фигурку, висящую на самой верхушке елки, устроенной его тетей, — автор «Ангелочка» тут же подчеркивает, что Ангел — не простая игрушка: его личико одухотворено «рукой неведомого художника». И это недаром, именно «одухотворенной красотой» завоевала эта восковая кукла душу и сердце Сашки — угрюмого и упрямого мальчишки-волчонка: «он увидел то, чего не хватало в картине его жизни, и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые».
Конечно же неблагополучный, как сказали бы теперь, Сашка, из милости приглашенный на елку к господам, — отнюдь не автопортрет маленького Леонида, да и обстоятельства Рождества в доме Андреевых были, разумеется, совсем иные: родители устраивали роскошную елку и, в отличие от своего героя, Ленуша чувствовал себя там хозяином… Важно другое: ангелочек становится символом иной, пока что недоступной ребенку правды и Сашка жадно выпрашивает и уносит домой маленький кусочек воска, надеясь, что даже скрытая от него правда эта все же будет жить рядом, надежно заключенная в тельце ангела, но, увы, ангелочек тает от тепла растопленной печки и текст остается непрочитанным, код — нераскрытым… Любовь к неживой игрушке оборачивается обманом, а значит — и страданием для ребенка. Совершенно иначе дело обстоит с книгами.
Научившись читать в шесть лет, Ленуша Андреев стал постоянной «головной болью» орловской городской библиотеки. За год исчерпав небогатые запасы детских сказок-картинок, он взялся за приключенческие романы Джеймса Фенимора Купера, Жюля Верна и Томаса Майн Рида. Один за другим глотал ребенок и бульварные выпуски авантюрного «романа с продолжениями» — «Похождения Рокамболя» Понсона дю Террайля, читал и другие модные штучки, причем по собственному свободному выбору. Брат Леонида Андрей писал, что критерием отбора служили два фактора: название книжки и ее цена. Заголовок книги непременно должен был быть пылким, и по всей вероятности, «Клуб червонных валетов», «Живой мертвец», «Морская волшебница, или Бороздящий океаны» или «Красный корсар» вполне удовлетворяли вкус взыскательного читателя. Цена же должна была быть не меньше рубля. Понятное дело, столь завышенный критерий выводил из круга чтения мальчика копеечные издания «Народной библиотеки»: «Детство» Толстого, «Капитанскую дочку» Пушкина, гоголевскую «Шинель», зато «часто, увлеченный необычной ценою книги, он выписывал какие-то научные труды, непосильные и взрослому»[3], — с иронией вспоминал младший брат писателя.