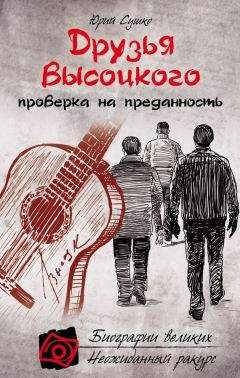Немудрено, что в детских судьбах Высоцкого и Ахмадулиной было столько совпадений. Они ведь были почти ровесниками, с почти незримой разницей всего лишь в девять месяцев. А «девять месяцев – это не лет…»
Когда Иосиф Бродский представлял Беллу американским читателям, он говорил, что рождение Ахмадулиной в «мрачнейшем году советской истории… является подтверждением изумительной жизнеспособности русской литературы». В полной мере эти слова можно было бы отнести и к Владимиру Высоцкому, чей вклад в русскую словесность не менее высоко оценивал нобелевский лауреат.
«Правильно я родилась, – размышляла вслух Белла Ахатовна, – 10 апреля 1937 года. День моего рождения не может быть для меня неважным. И год рождения не может быть неважным – все-таки кто-то родился, выжил, уцелел. Потом была война, всеобщее бедствие, смерть. И я чуть не умерла в эвакуации в Казани. Но ведь кто-то меня накормил в ущерб себе и своим детям, кто-то спас. Я, собственно, даже не знаю кто, но отношу это спасение ко всему великодушному человечеству. Нет-нет, правильно я родилась…»
Высоцкий, в первый раз получивший «свободу по Указу от тридцать восьмого», возражая жестокому веку, пел:
Но родился и жил я – и выжил.
Дом на Первой Мещанской – в конце…
А Ахмадулина откликалась:
Плоть от плоти сограждан усталых,
хорошо, что в их длинном строю
в магазинах, в кино, на вокзалах
я последнею в кассу стою –
позади паренька удалого
и старухи в пуховом платке,
слившись с ними, как слово и слово
на моем и на их языке…
Во время одной из домашних встреч они, случайно отстранившись от шумных приятелей, с головой окунулись в свое военное детство, вспоминали эвакуацию. Володя с мамой в те годы оказался в Бузулуке, Белла – всего в четырехстах верстах от Оренбуржья, в Башкирии. «И это навсегда осталось во мне, – вспоминала она, – теплушка на Уфу, и как солдат везут на фронт – в обратном направлении. Сейчас я думаю, что и тогда я понимала, какая гибель предстоит: почти никто из этих мальчиков не вернулся… Я была резвым здоровым ребенком – такие стихов не пишут… Первые мои годы я проживала в доме, где без конца арестовывали людей. А мне велели играть в песочек. Я не могла знать, не могла понимать, что происходит, но некий след во мне остался. Даже неграмотный, но очень тонкий слух ребенка многое улавливает».
А в чутком ухе другого малолетнего будущего поэта занозой вонзался разговор соседей по коммуналке:
«…Эх, Гиська, мы – одна семья,
Вы – тоже пострадавшие!
Вы – тоже пострадавшие,
А значит, обрусевшие,
Мои – без вести павшие,
Твои – безвинно севшие!..»
Из скромности, упрямства или невнятной обиды на взрослый мир маленькая Белла долго не говорила, и едва ли не первым осмысленным сочетанием слов, слетевшим с детских губ, было восторженное «Я такого не видала никогда!» в тот миг, когда девочка впервые увидела тюльпаны.
«С раннего детства, – вспоминала Ахмадулина, – мне запомнился шар, беспомощно запутавшийся в ветвях, огромные оранжевые лепестки букета маков, облетевшие при первом порыве ветра… Это ощущение хрупкости всего на свете во мне очень сильно и сегодня, и я думаю, что в этом ощущении-отчаянии есть какой-то смысл, какая-то поучительность. Ну хотя бы в том, что красота не есть то, чем ты должен обязательно владеть, что вообще всякое владение чем-то не прочно».
Хотя и говорила, что «такие стихов не пишут» – но писала, опять-таки – «влекло». Школьницей бегала во Дворец пионеров на Покровском бульваре, в драматическую и литературную студии попеременно. И много позже признавалась: «Два эти амплуа и теперь со мной».
С «Пионерской правдой» юной Ахмадулиной, конечно, повезло, но вот с главной «Правдой» – увы…
Когда по настоянию родителей Белла собралась поступать на факультет журналистики в МГУ, угрюмые члены приемной комиссии на собеседовании поинтересовались у абитуриентки содержанием сегодняшней передовой статьи органа ЦК КПСС и были обескуражены, к своему немалому изумлению, обнаружив, что дерзкая девица вообще не читает этой газеты. Добро еще, самый-самый мудрый из них тихо посоветовал юной сумасбродке поскорее забрать документы из университета. Возможно, тем самым сохранив ее для Поэзии.
Мне скакать, мне в степи озираться,
Разорять караваны во мгле.
Незапамятный дух азиатства
До сих пор колобродит во мне…
О своих корнях Белла знала от бабушки. Прадед по материнской линии – итальянский шарманщик, «южной мрачностью дикого взора растливший невзрачную барышню, случайно родил сына Митрофана недалеко от Казани, где его чужой, немыслимый брат по скудному небу, желтый и раскосый, уже хлопотал, вызывая к жизни сына Ахмадуллу, моего прадеда по отцовской линии…».
Мои близкие выжили, полагала Белла, потому что бабушкин брат Александр Стопани считался каким-то дружком Ленина. Остальные братья были, к счастью, других убеждений, но не они победили. Кто погиб в Белом движении, кто смог – уехал. Но о них молчали, скрывали.
Бабушка тоже была знакома с Лениным. Однако при этом терпеть его не могла. Тут довольно забавно: уходя на работу, мама наказывала бабушке: «Расскажи Беллочке про Ленина». Бабушка – редкостно добрый, сердечный человек, но воспоминания о Ленине у нее остались плохие. И внучке она простодушно их пересказывала. Барышней она носила туда-сюда прокламации, за что ее даже выгнали из дома. Потом бывшая гимназистка поступила на фельдшерские курсы, стала сестрой милосердия. В памяти сохранились обрывки истории о какой-то маевке. Почему-то бабушка в гимназической форме вместе с Лениным переплывала Волгу. И он, сам ссыльный, все время кричал на еще одного человека в лодке: «Гребец, греби!» Бабушку удивляло, что он сердился, а не пытался помочь. «Я, – признавалась Белла, – не очень понимала, что это «греби», но рассказ странным образом ужасал мое воображение: «Гребец, греби!..»
– «Греби, гребец…» – от души хохотал Высоцкий, слушая рассказ Беллы. – Знаешь, Белл, ты мне навеяла… Когда учился в школе-студии, я развлекался всякими баечками, которые придумывал на ходу. Тренировался в фольклоре, так сказать, детские сказки сочинял. Кстати, и о Ленине тоже… Плыли по Нилу три крокодила. Черт его знает, куда они направлялись… Но долго плыли. Один, правда, потом утонул в Красном море, второй выплыл, а третий… стал секретарем райкома партии… И вот плывут эти крокодилы, плывут, глядь, а на ветке золотой сидят два медведя. Один, кудрявенький такой, смотрел на небо, а второй качал ногой. Оказалось, кудрявенький – это был Ленин, а тот, что с ногой, – Александр Второй… Ну и так далее. В общем, чушь, конечно, дикая. Но меня за нее… Помнишь, дело Синявского?