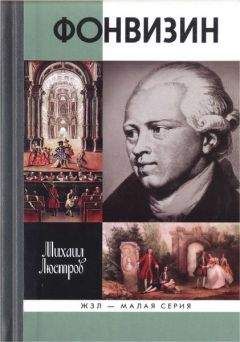Около 1758 года директор Московского университета И. И. Мелиссино вздумал ехать в Петербург и взять с собою нескольких учеников, чтобы показать основателю университета И. И. Шувалову плоды сего училища.
Каковы, казалось, могли быть плоды беспорядочного ученья! “Учитель арифметики пил смертную чашу; учитель латинского языка был пример злонравия, пьянства и всех подлых пороков, но голову имел преострую и как латинский, так и российский языки знал очень хорошо”. Этой “преострой головой” воспользовались более даровитые ученики.
В число избранных попали Фонвизин с братом, Потемкин и Булгаков. Десять малолетних учеников с Мелиссино и его супругой совершили трудный зимний переезд из Москвы в Петербург. Начальник и жена его смотрели за ними как за детьми своими. В Петербурге Фонвизин с братом остановились в доме дяди.
Воспоминание о приеме у Шувалова и при дворе осталось у Фонвизина на всю жизнь. Шувалов, взяв его за руку, подвел к человеку, вид которого уже привлек почтительное внимание юноши. “То был бессмертный Ломоносов!” Он спросил у мальчика, чему тот учился, и красноречиво стал говорить о пользе латинского языка. Великолепие дворца императрицы поразило, конечно, юношу, которому не было еще полных 14 лет, как нечто сказочное. Известна роскошь дворца Елизаветы. “Везде сияющее золото, собрание людей в голубых и красных лентах, множество дам прекрасных, наконец, огромная музыка – все сие поражало зрение и слух мой, и дворец казался мне жилищем существа выше смертных”. Фонвизину казалось счастьем остаться в Петербурге, но врожденное благоразумие и тоска по родным скоро взяли верх, и он без сожаления вернулся в Москву.
Пребывание в Петербурге оказало, однако, на него большое влияние. Между прочим, столкновение при дворе с одним заносчивым юношей, который отнесся к нему как к невеже из-за незнания французского языка, побудило его пополнить образование с этой стороны. Не оставляя латинского языка и слушая логику у профессора Шадена, он в то же время взялся за Вольтера и через два года пробовал уже переводить стихами его “Альзиру”. Особенно удачно переводил Фонвизин в это время с немецкого и, познакомившись с книгопродавцем, стал получать заказы. Первым литературным опытом его были басни Хольберга, изданные в 1761 году, затем последовали “Метаморфозы” Овидия и переводы статей: “Изыскание о зеркалах древних”, “О рисовальном искусстве” и др.
Все статьи эти говорят еще о петровской программе переводов классических и образовательных произведений, необходимых для практического использования в жизни. В переводе “Альзиры” Вольтера и “Сифа” аббата Террасона сказывается уже дух новой литературы, которая быстро начинает развиваться с воцарением Екатерины. Подробное название последнего перевода – “Геройская добродетель, или Жизнь Сифа, царя египетского” – говорит уже о воспитательном направлении века.
В 1762 году Фонвизин был сержантом гвардии, но военная служба не влекла его. Ему хотелось еще учиться, он искал случая обнаружить свои дарования. В это время двор прибыл в Москву. Фонвизин подал прошение в иностранную коллегию, и вице-канцлер князь А. М. Голицын, испытав его в знании иностранных языков, приказал послать в университет “промеморию”, которою предписывалось сержанта Фонвизина, “выключа из числа университетских студентов, прислать в коллегию для определения по желанию и способности его”. Он был скоро отмечен как хороший переводчик и даже послан с поручением к Шверинскому двору. С этого времени начинается его служба в Петербурге; параллельно со службой завязывались литературные знакомства и связи.
Еще во время пребывания в столице с Мелиссино юноша познакомился с Дмитревским, Волковым и другими. Еще тогда он чуть не сошел с ума от радости, узнав, что они бывают в доме его дяди. “Генрих и Пернилла”, комедия Хольберга, по собственным его словам “довольно глупая”, показалась ему тогда произведением величайшего разума, а актеры – великими людьми, знакомство с которыми должно составить его благополучие. Действие, произведенное на него тогда театром, почти описать невозможно, говорил он уже на краю гроба. Обладая сам даром прекрасно “передразнивать людей”, он с этих пор особенно внимательно всматривается в окружающее, и в нем начинает шевелиться идея создать свою комедию. Попытка его ограничивается пока “переделкою на русские нравы” комедии Грессе “Корион” (в трех действиях). Фонвизин сохранил все недостатки этого рода комедий, не прибавив достоинств. Лица в комедии не русские и не живые, изображение страстей натянутое, и пьеса кончается попыткой самоубийства, которая не удается, потому что слуга, “добрый гений” своего барина, подменяет яд и говорит в момент отчаяния умирающего: “Вы выпили не яд, а выпили водицу”. И вся пьеса – плохая фальсификация, хотя не яд, но водица. Как перевод пьеса недурна и заключает в себе интересные по мысли монологи о недостатках современного общества, о чести, гражданском и человеческом долге, самоубийстве и так далее.
К этому же времени относится оригинальная басня Фонвизина “Лисица-казнодей”,[1] в которой автор, несмотря на молодость, пытается уже сатирически изобразить корыстные побуждения людей, – результат наблюдений, которые, быть может, он успел сделать на недавней службе и при дворе. Лисица сплетает похвалы Льву, “царю зверей” (впрочем, уже умершему). Автор говорит тем, кто удивляется нахальной лжи льстеца:
Чему дивишься ты,
Что знатному скоту льстят подлые скоты?
Когда же то тебя так сильно изумляет,
Что низка тварь корысть всему предпочитает
И к счастию бредет презренными путьми,
Так видно никогда ты не жил меж людьми.
В “Трутне”, известном сатирическом журнале прошлого века, находим “известие”, которое сразу вводит читателя в мир сатиры и аллегории того времени. Известие идет с Парнаса. Музы жалуются Аполлону на искажение переводчиками славных поэтов.
“Мельпомена и Талия проливали слезы и казались неутешными. Великий Аполлон уверял их, что сие случилось без его позволения, и показал Талии новую русскую комедию, сочиненную одним молодым писателем. Талия, прочитав оную, приняла на себя обыкновенный свой веселый вид и сказала Аполлону, что она сего автора с удовольствием признает своим законным сыном. Она записала его имя в памятную книжку, в число своих любимцев”.
Это известие знакомит нас с успехом комедии “Бригадир”.
Успех был решительный и единодушный, как у критики, так и у публики. Комедия “часто представлялась на театре, как в С.-Петербурге, так и в Москве, завсегда к отменному удовольствию зрителей и не выходя из вкуса”, пишет современник в “Драматическом вестнике”. Другие говорят, что большего успеха не мог иметь и Мольер во Франции. В самом деле, достаточно сравнить “Бригадира” с любой театральной пьесой того времени, чтобы понять вполне этот успех. В этой комедии современники в первый раз встретили живое, острое слово и неподдельное веселье взамен натянутых рассуждений и ходячей морали. Издатель “Адской почты”, определяя характер комедии, замечает, что автор пишет “на вкус Мольеров”. Что же касается типов, то “в комедии – редкости, – говорит он, – не хочу сказать – невозможности”. Полевой, конечно, прав, говоря так об этой комедии: