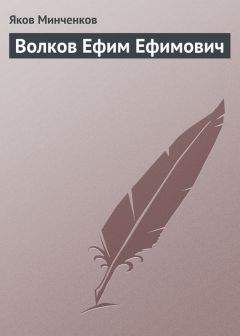Строил Бодаревский из себя художника-барина какой-то высшей марки. Необычайно напыщенный и салонный тон, французская речь с дамами, целованье их ручек, обхаживание денежных особ и, несмотря на довольно значительный заработок, постоянная задолженность. Затеи нелепые: строил себе дом-виллу под Одессой какого-то бестолкового стиля, считая его за арабский, пробивал тоннель в скале к морю. Во всем был сумбур и художественная пошлость. Но какой барин! Высокий и довольно красивый, в золотом пенсне и с надменным выражением лица. Как будто приказывал: «Эй, человек! подай мне!»
Передвижники не выносили его, но по уставу не могли исключить из своей среды, так как преступлений он все же не совершал. Только когда ставил вещи, спускавшиеся до уровня порнографии, товарищи протестовали и убирали их с выставки.
В этих случаях Волков выступал застрельщиком, говорил Бодаревскому откровенные, крайне обидные для авторского самолюбия слова и приказывал рабочим снимать непозволительные по правилам передвижников картины Бодаревского. Конечно, атмосфера разражалась грозой, доходившей чуть не до поединка, особенно на обедах, устраиваемых перед открытием выставки.
Парадные товарищеские обеды, кто их не помнит?
На общие собрания к открытию выставки в Петербург съезжались почти все члены Товарищества с разных концов России. Приезжали и экспоненты, т. е. художники, еще не избранные в члены Товарищества и подвергавшиеся баллотировке (жюри).
Это был годичный отчет художников в их творчестве, их великий праздник. Члены Товарищества без жюри несли свои вещи на суд, где перед собой и публикой ставили напоказ свои думы и заветные мечты; робкие экспоненты с трепетом ожидали результатов жюри и, большей частью с разбитыми надеждами, отвергнутые, уезжали домой, чтобы еще год собираться с силами к новому выступлению, новой пробе. После шумных собраний и суеты по устройству выставки, перед ее открытием устраивался парадный обед – неизменно в ресторане Донона у Певческого моста.
В 70-х годах передвижники впервые устроили свой обед в этом ресторане. Овеянные славой, они создали рекламу и ресторану, в котором потом начали устраивать свои встречи инженеры, врачи, писатели. Признательный Донон ежегодно предоставлял передвижникам свой ресторан, не повышая даже цен. На обедах происходило сближение членов Товарищества с экспонентами – будущими своими товарищами.
На собрания и обеды не допускались посторонние и даже члены семей художников. Обед, по традициям Товарищества, должен был носить не семейный, праздный характер, а прежде всего деловой – обмен мыслями и единение на почве интересов искусства. Для репортеров на дверях рисовался кулак.
Большой зал, большое собрание, речи, тосты, поздравления, пожелания. Выдающимся виновникам торжества выставки приходилось выслушивать жаркие поздравления и целоваться со всем собранием.
На собрании, на обеде отбрасывалось все благоприобретенное из высших сфер и буржуазного общества.
Старики забывали свою старость, свое положение степенных профессоров и жили в эти часы жизнью художественной богемы в духе шестидесятников. Лились воспоминания, строились планы будущего, подсчитывалось пройденное.
«А что, батько, – выкрикивал там через стол вихрастый Суриков Репину, – есть еще порох в пороховницах? не иссякла сила передвижников?»
А Репин, потрясая прядями густых волос и грозя кулаком в пространство, смеялся: «Есть еще порох в пороховницах, еще не иссякла наша сила». А потом потускнел, опустился на стул, накренил голову на руки и тихо и грустно добавил: «А уже и иссякает…»
Кто-то за роялем, и все хором: «Из страны, страны далекой, с Волги-матушки широкой, собралися мы сюда…»
«Давай бурлацкую!» – «Сперва «Выдь на Волгу, чей стон раздается», а потом «Эй, ухнем! Товарищи, ухнем!» (передвижники уже тогда звались товарищами.) – «Ухнем, еще разик – ухнем!»
Гудит зал, В. Маковский бьет на гитаре, Богданов за роялем. Расступись, дай место.
Сбрасывает с себя сюртук низенького роста старик, барон М. П. Клодт, подымая руки кверху, быстро сыплет коротенькими ножками финский танец. Репин с компанией бьет в такт в ладоши.
«А где Ефим? Волков, где ты?» А тот уже успел в передней вывернуть шубу мехом наружу, подпоясался, заложил усы, сморщил лицо до неузнаваемости, щелкнул костлявыми пальцами и закрутился на тощих высоких ногах вокруг приседающего к земле Клодта.
Что за танец у Волкова – никто не поймет, но только смотреть без смеха невозможно. И привыкшие к нему передвижники хватаются за бока, а новички-экспоненты валятся от смеха.
В таком виде Волков выступил однажды и на академическом балу. В числе приглашенных артистов там танцевала балерина Петипа. И только что кончила она классический танец, как на эстраде появилась необычайная фигура Волкова. Гомерический хохот. Находчивая артистка начала какой-то необычайный танец, а пианист – к нему импровизацию.
Волков распростер руки и, как на ходулях, высоко поднимая колени, начал выделывать необыкновенные па с потешными гримасами сатира.
Под гром рукоплесканий Петипа целует Волкова. «Это безумно, это по-русски, это дико, это гениально!»
И в этом же зале у Донона после 9 января передвижники тоже собрались, но не пели, не танцевали. Сидели угрюмо. И тот же Волков дрожал, трясся и стучал костлявыми пальцами, говорил: «Позвольте… Это что же… Как так?.. Стрелять?.. А мы что же?.. Забыли, кто мы?.. Скажем… почему не так… не боимся… Давай подпишу…»
Писали резолюцию: «Задыхаясь в тисках бюрократического произвола, Россия… Мы, художники, с особой чуткостью воспринимая жизнь, требуем…»
Требования были такие, что после помещения резолюции в журнале «Право» журнал был закрыт. Был слух, что подписавшим резолюцию будет предложено поехать наслаждаться природой в отдаленнейшие губернии России. Но подписали все.
Много разных грехов водилось за всеми, растворялись товарищи в суете буржуазного общества, но лишь только являлись на свои собрания – отряхали греховный прах от ног своих и жили старыми заветами Товарищества. Подтягивались, не кривили душой, и в целом руководящим началом являлось у них требование правды. И эти большие и малые, а подчас и чудашные люди были лучшим из того, что дала в искусстве земля русская, это от их творений мы замирали в восторге на выставках и в галереях, дивясь их особому чутью и тончайшему восприятию мира, жизненных явлений, претворяемых в художественные образы.
И удивительным казалось, как такой на вид простой человек мог правдиво учуять биение жизни, вызвать образ его в такие чудесные формы. И откуда у него такой подлинный аристократизм, тончайшее понимание формы и красок? И как при кажущейся своей простоте мог он так умно выразить идею в своем произведении?