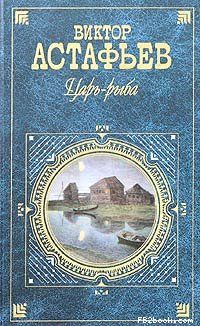А потому закругляюсь-ка я. Остаётся лишь написать, что «Синие сумерки» пока не вернулись. Пойдут, наверное? Я их «подправил» очень ловко и осторожно. Повесть так хорошо обдёргали, что главное осталось, а то, что цензуру может раздражить, как языком корова слизнула. «Ясным ли днём» я Вам привезу потом в уже окончательной (пока) редакции.
Вот и всё. Надо расставаться с письмом. А жаль чего-то. Вроде бы болтал и болтал с Вами, о чём хотелось и как хотелось. А это так славно – болтать, как душе хочется. Обнимаю Вас. Ваш Виктор
Февраль 1967 г.
(А. Н. Макарову)
Дорогой Александр Николаевич!
Захватил я всё-таки с собой столичный грипп, а он, зараза, куда крепче периферийного оказался. Дней десять пластом лежал, и сейчас ещё болит спина и вялость в теле да звон в голове. Следом за мной болели Андрей и Ирина, а сейчас лежит мать, а я хозяйствую. Хозяин из меня, прямо надо заметить, хреновый, и зло от меня да раздражение – и никакого толку. Работать совсем не могу. Выбит из колеи, а это действует на мой характер весьма и весьма отрицательно. И редактор мой не едет чего-то, а я его жду, жду…
В середине марта я не приеду на пленум. Нечего кататься взад-вперёд. Но вот в середине апреля мы, наверное, приедем вместе со старухой. Дело в том, что отдел пропаганды Союза затеял обсуждение «Кражи» и последних моих вещей, а я не возражал. Надо послушать и уловить, может быть, важный какой-то момент в работе, который, чувствую я, наступил, а где он, в чём? – уловить и понять не могу. Когда меня спросили по телефону, кто бы сделал на этом обсуждении вступительное слово, я брякнул о Вас. Брякнул, а потом подумал, что, не спросясь-то, наверное, не надо было этого делать. Но я опять же подумал, что Вы уж всё читали, а кому-то мучиться бы пришлось, и кроме того, думаю, раз отдел да ещё пропаганды, так он, может, и заплатит Вам маленько за это дело.
Ладно ли я поступил-то?
У больного есть одно хорошее преимущество перед здоровыми – он может себе позволить читать. Дочитал я «Мастера и Маргариту». Мне вторая часть, кроме глав о Понтии Пилате, не понравилась. Тут явный перебор пошёл. И всё на грани шизофрении, воздействие скорее на психику, а не на ум и сердце. Я аж за голову начал хвататься, дочитывая разогнавшегося Булгакова. Мне кажется, при желании такое наговорит кто угодно, а вот первую часть никому больше не написать.
Давно добирался до «Дюма» Моруа. Прочёл. Был под впечатлением большим и сейчас под ним нахожуся. Такие люди и миры, как Дюма, будто нарочно существовали для того, чтобы собою подчеркнуть наше ничтожество и нашу обывательскую сущность. Какой наполненной и яркой жизнью они жили! И оттого им хорошо было делаться романтиками и выдумщиками. А мы, как черви-древоточцы в дверке, скрипим-скрипим и горсть опилок выточим. Выше бытописательства и натурализма нам и не подняться, потому что люди мы не свободные в действиях своих, а уж отсюда прямая зависимость и мыслительная. В лучшем случае мы можем что-то увидеть и более или менее списать, и тут достигли даже виртуозности и предельной простоты, часто переходящей границы натурализма. А поднять моральную, этическую или – уж совсем нонсенс! – политическую проблему нам не дано, потому как у всех у нас, кроме Москвы, пожалуй, задница не по циркулю. А без проблемы, без углубления в действительность какая может быть литература? Слова на бумаге, да и только.
Я вот пробовал тут писать в «Литературку» статью о рассказе. Писал, писал, а потом перестал. Боже мой, как всё плоско, уныло и примитивно! Мысли, которые я с трудом выковырял из башки, и на мысли-то не похожи вовсе, а на конские шевяки, что валяются на дороге и раскисают от первой сырости и прилипают к сапогам, а не к сердцу. Так вот и сижу в депрессии или пессимизме полном. Не то хвораю, не то хандрю и ничего не могу делать.
Хочу в деревню скорее, уж мотыль Ваш пропадает, а всё не получается. Ваш Виктор
22 марта 1967 г.
(А. Н. Макарову)
Дорогой Александр Николаевич!
Уж так получается, что, получив от Вас письмо, я испытываю нутряную потребность не то чтобы ответствовать, а поболтать с Вами и тем втягиваю Вас в переписку, хотя я Вам, кажется, говорил или писал, что отвечать мне совсем необязательно. Не скрою, мне Ваши письма – это отдушина и радость, но не обременяйте себя, тем более в нездоровье будучи.
Я убрался в деревню. Уже скоро десять дней здесь. Оклемался, отдышался и… рыбачил. Погода у нас холодная, никак зима не сдаётся, и клёв неважный. Ловлю ершов в основном, изредка попадают окунишки, но я везучий на рыбалке, меня даже в деревне колдуном за это звали, и при бесклёвье, на глазах у изумлённых рыбаков, почти на сухом месте просверлил лунку и поймал двух приличных голавлей, то-то рыбаки ахнули. Говорят: «А мы-то, а мы-то!..» и больше добавить ничего не могут, и я их понимаю: мы-то думали, тама рыбы нет, у берега-то, думали, и лягухи не водится, а ты-то… Словом, посрамил я род людской, а сын меня посрамил, собственный сын! Поехала моя Мария встречать редактора, который дал телеграмму, что двадцатого выезжает, и… не приехал, падла такая. Я деткам своим послал ершишек и окунишек на уху. Мать приезжает – вот, мол, папа деткам рыбки послал, старается, а сын открывает ей холодильник, и там лежат окуни, сорожины и голавль. Оказывается, он шутки для поехал с ребятами на воскресенье поудить и играючи наловил там рыбы, а я её тут ищу, сверлю, а из всех дыр дымина валит… Так вот всюду посрамляет и обставляет нас молодёжь!
А редактора-то нет! Я хоть и хорохорюсь, но душа не на месте. Ведь если они боданут мне книжку, я на лето останусь без копейки денег и тогда… а всё тогда накроется: и поездки, и покой, и семейное благополучие.
Редакторы… А Вы тоже, хоть и старый лит. волк, а наивный, спасу нет. Неужто вы всерьёз подумали, будто это я дал кастрировать повесть в «Молодой»? Да меня никто и не спрашивал! Цензор – та придралась к тексту, к бабушке этой несчастной и ещё кое к чему, а журнал на выходе, ну и рубили, как хотели. Уж лучше бы они совсем эту фразу вместе с куском выбросили, тогда б не так нелепо было. Но в «Молодой» со мною и не такие штуки выделывали. Я, кажется, рассказывал вам, как обошёлся Котенко со «Звездопадом»? А что сделал Зубавин с рассказом «Два бойца» или «Сашка Лебедев», знаете? Я освирепел и написал Зубавину письмо, где даже и оскорблял его последними словами, а он… Он даже не рассердился на меня. Видно, много таких писем получает. Ответил только: «Посидели бы на моём месте…»
Вот и «Кражу» тоже маринуют. «Виктор Петрович, укажите карандашом все места, где есть расхождения с журнальным вариантом», – говорят. Я отвечаю: «Помилуйте, как можно! После журнала я объёмно перелопачиваю вещь, делаю всеобщую правку, как же я Вам укажу?!»
Ну вот договорились, что редактор ещё и ещё прочтёт повесть ту и другую, а затем зав., а затем главный и отметит, а «Вы уж на месте утрясёте, только, пожалуйста, помните о лите[88]. Мы Вам зла не хотим, но лит, лит!..» И руками себя хлопают. Все добра хотят, все хорошие, да боятся лита! И где уж боязнь, а где перестраховка – не всегда различишь. Беда прямо!
Написал я всё-таки статью о рассказе в «Литературку»[89]. Плохо получилось, плохо. Мысли вроде коровьих лепёх, серо-зелёные, но послал, хотя бы для того, чтоб знали, что данное слово пытался сдержать. Продолжаю работать над «Страницами»[90], и работа эта меня радует. А дальше «Пастух и пастушка» и, действительно, потом коридор пустой. Не в смысле тем и замыслов, у меня их всегда в башке роится уйма, а в чём-то другом. Но если хунвейбины разные не помешают, у меня вроде бы ещё перспектива с годик не писать – планируется моя книжка в «Уральскую библиотеку» и переиздание всех повестей в «России» на 69-й год. Кроме того, я пристрою где-то «Страницы» и воспользуюсь тем, чтобы годик поездить, подумать, передохнуть. Многое мне нужно рассказать о войне, о мною увиденной войне, и как это сделать, с какой стороны на войну зайти, надо подумать. Время нужно и пространство. «Страницы» в самом деле что-то вычерпали во мне, какой-то эмоциональный заряд, который можно было растянуть надолго, я в них выхлестнул, и этот источник, так долго меня питавший, иссяк. Попробую набираться материала и эмоций в современности. Только недоброе у меня к ней отношение и боюсь, что не пойдёт у меня современность. Но есть война, война, хреновина одна… Ну да чего горевать! Скоро уж пятьдесят будет, а там, как цыган говорил: «Зима да лето, зима да лето» – и пенсию писательскую дадут. Вот уж тогда я порыбачу-у-у!.. А поджелудочная железа – это, дорогой мой человек, плохая штука. У Толи-пасечника мучается этим делом жена. Только что вернулась из больницы, после всяких блокад и прочего. Лежит. Велели ей: вина не пить, горького и острого не есть, с мужиком не… того, и вообще… не мять никак живот. Лежит сейчас дома, в Быковке, и пока мало сдвигов. Диета, наверное. Диета Вам только и поможет, а ещё бы лес, да деревня, да свежее молоко, да покой… Но «покой нам только снится», как сказал товарищ поэт. Как бы хотелось, чтоб Вы были здоровы и жизнерадостны! Да ведь не маг я булгаковский, а то б моментом эту железу Вашу вынул и другую, стальную, что ли, вставил.