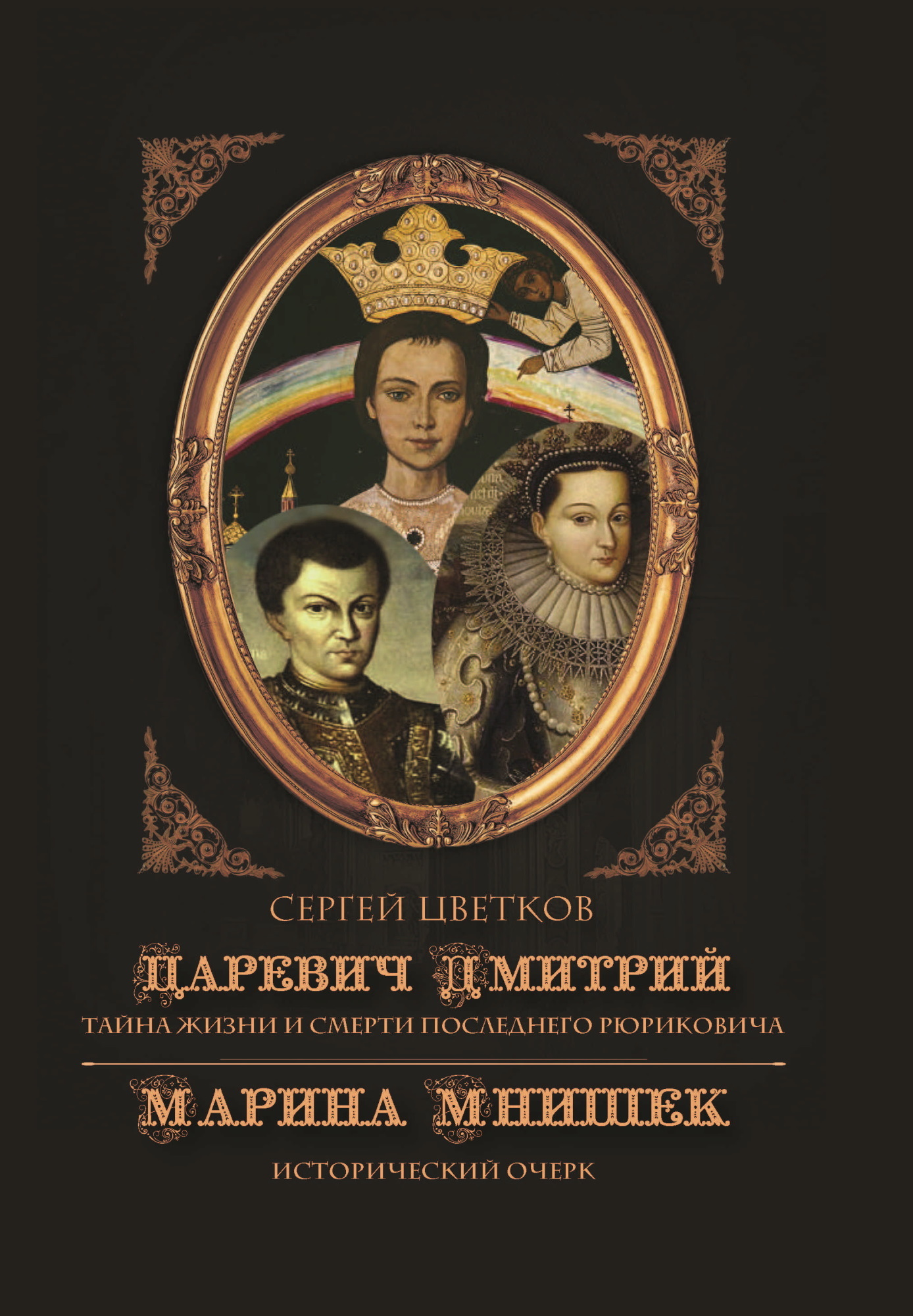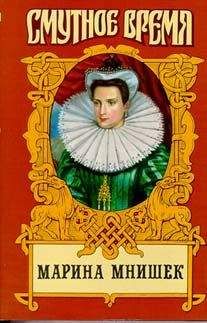минут его позвали обратно; вслед за ним вошли и другие паны.
– Боже вас сохрани в добром здравии, московский князь Дмитрий, – сказал король. – Мы верим тому, что от вас слышали, верим письменным доказательствам, верим и свидетельствам других и поэтому ассигнуем в пособие вам 40 тысяч злотых в год. С этого времени вы друг наш и находитесь под нашим покровительством. Мы позволяем вам иметь свободное общение с нашей шляхтой и пользоваться ее помощью и советами в той мере, насколько будете в них нуждаться.
Деньги, о которых говорил король, выделялись из доходов Самборского королевского имения, что вряд ли могло понравиться Мнишку. Помимо этого, Сигизмунд подарил Дмитрию золотую цепь с медальоном, выдал вытканные золотом и серебром материи и взял на себя часть расходов по содержанию царевича и его свиты в Кракове. Что касается политических обещаний, то он, как видно, остался верен своей системе официального невмешательства и тайного попустительства.
На следующий день Дмитрий причащался в доме у нунция, приехав к нему под предлогом прощального визита. В отдаленных покоях Рангони был воздвигнут алтарь. При обряде присутствовали только свои люди: хозяин дома с двумя капелланами, Мнишек и Савицкий. Дмитрий исповедовался, прослушал обедню и причастился. Затем Рангони посвятил его в воины Христовы: помазал миром, слегка ударил по щеке и совершил над ним рукоположение. Передают, что Дмитрием овладел такой восторг, что он призывал небо в свидетели своего чистосердечия, проклинал расчеты и притворство и, сожалея, что не имеет возможности облобызать стопы папы, желал воздать эту почесть его представителю, для чего уже наклонился к башмаку Рангони, но нунций успел его удержать.
С тем же пафосом Дмитрий делился своими соображениями о том, как привести православную церковь в согласие с католической. С греческим духовенством, говорил он, толковать нечего – оно невежественно и упрямо, а с русским можно столковаться. Московский царь – это наездник, который направляет коня туда, куда желает.
– Вот как я намерен взяться за дело: соберу русских архиереев и латинских, предложу им различные вопросы, заведу между ними прения. Латиняне, конечно, прижмут своих противников. Я это отмечу, примкну к их мнению и таким образом мало-помалу, как бы незаметно, приведу русских к церковному единству.
Вместе с тем он упорно настаивал на сохранении в России патриаршества и просил разрешить ему причаститься в день коронации в Москве по греческому обряду. Он никоим образом не желал ни нарушать национальные традиции русских, ни признаться в своем отречении от православия. Нунций обещал посоветоваться по этому вопросу с Римом. Вообще с этого дня он больше не сомневался в искренности и набожности Дмитрия. Чтобы поддержать рвение царевича, он рассказывал ему о императорах Константине Святом и Карле Великом, распространивших свет христианства среди многих народов, упоминал о римских фресках с изображениями главных христианских деятелей – среди них найдется место и для него, для Дмитрия. Рангони заранее разрешил ему во время похода вкушать скоромное в постные дни и пользоваться в случае необходимости книгами, внесенных инквизиционным трибуналом в список запрещенных сочинений.
Напоследок Дмитрий вручил нунцию известное нам письмо к папе, запечатанное печатью с изображением двуглавого орла, св. Георгия и надписью, сделанной по кругу: «Дмитрий Иванович, милостью Божией Царевич». Он попросил у Рангони извинения за недостатки композиции и назвал свой почерк некрасивым. (В Риме письмо Дмитрия изменило отношение к нему: инквизиционный трибунал признал его лицом, заслуживающим доверия. Климент VIII приписал на полях письма: «Ne ringratiamo Dio grandanente…» («Возблагодарим премного Бога за это…») и продиктовал ответ – уже не «новому Себастьяну», а «любезному сыну и благородному сеньору».)
Обращение Дмитрия в католичество представляет любопытную психологическую загадку. С одной стороны, трудно сомневаться в том, что многие слова и поступки были сказаны и сделаны им от чистого сердца, без всякой задней мысли. С другой стороны, при ретроспективном освещении его жизни вся эта история представляется не более чем непристойной комедией, разыгранной ради сиюминутных политических выгод. Видимо, тогда, в Кракове, обе стороны – и Дмитрий, и иезуиты – отдавали себе ясный отчет в политической подоплеке отречения от православия. Но не один голый расчет руководил Дмитрием. Будучи горячей, страстной, увлекающейся натурой, он, играя в искренность, невольно заразился ею сам и заразил других. Принимая католичество, он преклонялся перед верой Марины, перед тысячелетним авторитетом воинствующей церкви, влагавшей ему в руки рыцарский меч для крестового похода против турок; он на мгновение увидел себя величайшим церковным реформатором, восстанавливающим согласие в христианском мире. Масштаб его замыслов был именно таким. Он не разыгрывал комедию, как не разыгрывал ее Генрих IV, несколькими годами ранее отрекшийся от протестантизма, чтобы погасить огонь гражданской войны, бушевавший во Франции. Просто Дмитрий решал вечный спор между верой и делами в пользу дел. Кроме того, в той легкости, с какой он отказался от православия, видно типичное поведение москвича XVI–XVII вв. при столкновении с западноевропейской культурой. В качестве сравнения можно привести пример первых 18 русских студентов, дворянских «робят», которых Борис Годунов в начале XVII столетия направил заграницу – во Францию, к немцам в «Любку» (Любек) и в Англию – «для науки разных языков и грамоте». Но тут грянула Смута. Про студентов забыли. Когда, наконец, при Михаиле Федоровиче Романове все успокоилось, в Посольском приказе вспомнили о посланных отроках. Стали искать, наводить справки у заграничных правительств. Концов, однако, в большинстве случаев найти не удалось. Домой вернулся лишь один студент. Другие рассеялись по Европе или отказались покидать еретический (тогдашний эквивалент «загнивающего») Запад. Причем, у одного посланного в Англию оказалась весьма уважительная причина продлить командировку на неопределенный срок: оказалось, за эти годы он не только переменил веру, но и «неведомо по какой прелести в попы попал», т. е. сделался англиканским священником!
Во время пребывания Дмитрия в Кракове в город явилась толпа московских людей – какой-то Иван Порошин с товарищами. Они услыхали, что во владениях польского короля находится чудесно спасенный сын Ивана Васильевича и отмахали много верст, чтобы взглянуть на него. При первой же встрече с Дмитрием они поклонились ему и признали его настоящим царевичем.
Тогда же с Дона приехали два атамана: Корела и Нежакож. По их рассказу, когда Григорий Отрепьев, пробравшись из Брагина на Дон, известил казаков о появлении в Польше Дмитрия, в казацком кругу стали думать, как поступить: признавать или не признавать его истинным царевичем. Несколько тысяч наиболее горячих голов решили идти к польским границам и направили вперед своих атаманов, проведать, тот ли человек Дмитрий, за кого себя выдает, и если окажется, что тот самый – то передать ему, что все казачество готово ему служить. С атаманами