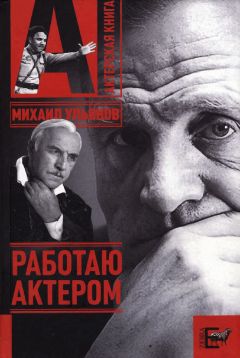Наши учителя рассказывали о революции, о Евгении Богратионовиче Вахтангове, о том далеком нам времени с таким волнением и с такой любовью, которую нельзя наиграть при самом большом театральном опыте. Они с таким трепетом говорили о Вахтангове, с таким, я бы сказал, обожествлением (я сознательно употребил это слово, ибо речь идет о гении режиссера), что он до нас, не видевших его, доходил как некая близкая и в то же время легендарная фигура. Близкая потому, что его советы, его деяния живут в людях — тех, которых мы знали близко, легендарная потому, что он создал театр, в котором мы сейчас трудимся и творим. Он успел набросать сочно и ярко эскиз нового театра, рожденного Октябрем. «Принцесса Турандот» — первый его спектакль. Сам режиссер, тяжело больной в то время, даже не увидел премьеры. И уже ученики Вахтангова потом превратили эскиз в слаженный, своеобразный и интересный театральный коллектив, который унаследовал все лучшее и от своего учителя и от того беспокойного и прекрасного времени.
Нам дорого в нашем театре все вахтанговское. Ведь Евгений Богратионович в своих высказываниях, дневниках и письмах, говоря о революции, принимал ее и как революцию в искусстве, как поиски новых путей развития его, как высокое требование к таланту — служить народу! Он неустанно говорил о народности истинного искусства: «То, что отложилось в народе, — непременно бессмертно. Вот сюда художник должен устремить глаза своей души».
Вахтангов — вся сила, гигантский талант этого человека — выразился в том, что он шел в искусстве своими, непроторенными порогами. Его заветам следовали его ученики, такие, как Б. Щукин, Р. Симонов, Ю. Завадский, Б. Захава, И. Толчанов, Ц. Мансурова, Е. Алексеева.
Естественно, каждый театр ищет свой путь. И наш театр в этом смысле не отличается от других. Но в лучших своих постановках он ведет поиск своим, вахтанговским методом. Что это такое? Все мы, вахтанговцы, понимаем и чувствуем его одинаково, но каждый по-своему формулирует этот метод.
Мои учителя по сцене учили меня любить в искусстве праздничность и конкретность, высокое напряжение чувств и мыслей, не забытовленно-пасмурное, а кипуче-раскованное сценическое действие. Не поучать зрителя, а воспламенять его — вот цель вахтанговца. Воспламенять то жгучей любовью, то ненавистью, то безудержной нежностью, то жалящей иронией. Воспламенять!
Вахтанговское начало в театре… что же это такое? Для себя я определяю это так: избыток радости бытия, бурлящей силы жизни, молодости духа, любви к театру, к своей сцене, к своей роли. От этого рождаются раскованность творчества, праздничность внутреннего настроя, особой силы сценическая заразительность, что всегда отличает лучшие создания вахтанговцев.
В чем для меня выражается вахтанговский метод? Не боясь повториться, еще раз скажу — в избытке жизненных сил. Лучшие спектакли в нашем театре ярко выражают этот расцвет жизненных сил народа, эпохи. Это не просто «восторги», не пустое бодрячество. Отнюдь нет! Это ощущение жизни во всей ее полноте, биение пульса времени в каждом спектакле, будь это комедия, драма или трагедия.
Мне кажется, что метод Вахтанговского театра в современных условиях требует некой коррекции. Театральность — это прекрасно, форма — это, безусловно, замечательно, изящество и, так сказать, некая приподнятость над жизнью — это хорошо. Но сегодняшнее время требует углубленности при решении всех жизненных вопросов. Опираясь на огромные завоевания вахтанговского метода, на его понимание, мы иногда все же начинаем чуть скользить по поверхности. Происходит это, в общем, не от неумения, а от каких-то других причин. Я же понимаю сейчас этот метод как естественное сочетание глубины философии с ярчайшей гротескной формой. Вот я, вахтанговец, проработавший в театре много лет, ученик Рубена Симонова, считаю, что при этом соединении вахтанговский метод приносит больше пользы.
Читая эти строки, кое-кто может сказать: «Я видел у вас очень средние постановки, которые ничем не отличаются от обычных». Да, у нас есть и такие. Но тем не менее «добыча» наша, как говорят шахтеры, довольно высокая, «на-гора» мы, я имею в виду наш театр, выдали много спектаклей, ставших событиями в театральной жизни страны.
В творческом горении, в утверждении жизненного и поэтического начал действительности, в яркой форме для меня и заключается искусство нашего театра.
Я не искусствовед и не берусь формулировать теорию: в чем смысл вахтанговского метода. Я только рассказываю о том, как ученики Вахтангова от поколения к поколению воспитывают и передают его видение жизни. И когда на нашу сцену приходит настоящая большая литература, когда мы находим вахтанговское решение для нее, тогда у нас и получаются такие спектакли, как «Егор Булычёв и другие», «Человек с ружьем», «Город на заре», «Интервенция», «Фронт», «Виринея», «Мадемуазель Нитуш», «Иркутская история», «Филумена Мартурано». Разные, непохожие спектакли, но окрыленные одним — пафосом жизнеутверждения, сплавом высокого литературного и театрального начал.
Я имею в виду эмоциональную искрометность не только «Принцессы Турандот», когда говорю о вахтанговском начале театра. Ощущение предельной полноты жизни есть, как мне кажется, и в «Человеке с ружьем», в образе В. И. Ленина. Ощущение необычайности события — первой пролетарской революции! Ощущение громаднейшей, ни с чем не сравнимой ответственности за ее судьбу, неизведанности ее путей и действия! Все это предпосылки огромной деловой сосредоточенности и серьезности сценического поведения актера в образе вождя. Когда в 1970 году в театре заново ставили спектакль «Человек с ружьем», а мне была поручена роль В. И. Ленина, мы с режиссером Евгением Симоновым решали образ Владимира Ильича в строгом соответствии с предлагаемыми обстоятельствами (прошло всего несколько дней после победы революции), искали глубочайшую сосредоточенность огромной энергии, крайнее напряжение мысли и воли.
Высочайший накал революционной страсти вижу я и в начдиве Гулевом из «Конармии» Бабеля. Играли этот спектакль вахтанговцы с азартом, дерзостью, какой-то бесшабашностью, артистическим захлебом. Может быть, в чем-то мы иной раз перебарщивали, даже впадали в буффонаду, но она окрашивалась искренностью, сердечной актерской любовью к героям тех славных дней и дел.
Борис Васильевич Щукин, узнав, что критики считают, будто он в Егоре Булычеве играет трагедию умирающего класса, активно воспротивился этому утверждению. Он говорил, что играет конкретную личность — купца и ёрника, умницу и пройдоху — живого Егора Булычева, попавшего в беду, неизлечимо больного и сознающего безысходность своего положения. Это самое главное, а в результате через конкретную судьбу может возникнуть и картина гибели класса.