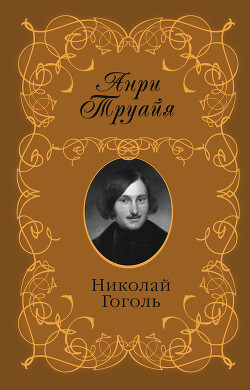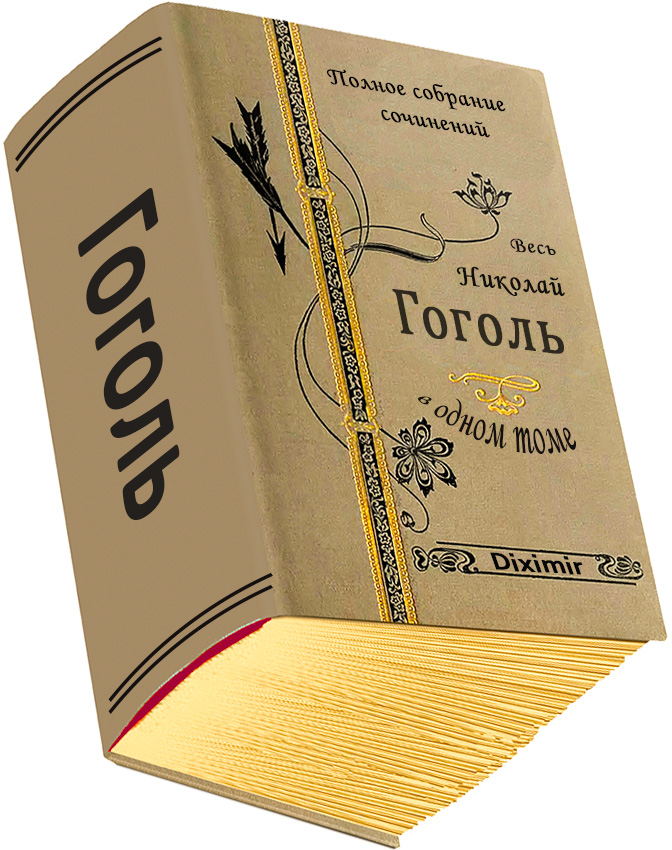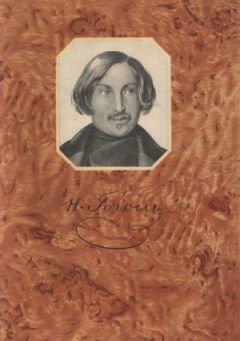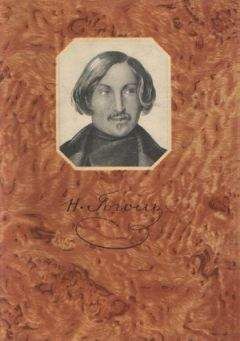Наконец, 29 сентября, они, плача и всхлипывая, сели со своим братом в старый желтый фамильный экипаж. Яким и Матрена устроились на козлах, рядом с кучером. Марья Ивановна и ее старшая дочь, в легкой коляске, сопровождали путешественников до Полтавы. Там было место окончательной разлуки. После сорока восьми часов, проведенных на постоялом дворе, Гоголь, две его младшие сестры, Яким и Матрена снова отправляются в путь по дороге, ведущей на север, в той же коляске, запряженной взятыми напрокат лошадьми, в то время как Мария и ее мать возвратились в Васильевку.
Багаж покачивался, оси скрипели, как будто они вот-вот сломаются; Гоголь старался развлечь девочек, которые начинали плакать из-за каждого пустяка. Но переезды были длинными; лошадей на станциях не хватало; коляска претерпела множество аварий, после чего, по прибытии в Курск, развалилась окончательно. Нужно было задержаться в этом городке на неделю для того, чтобы ее починить. Гоголь, проявляя свое нетерпение, писал Плетневу:
«Вы счастливы, Петр Алексеевич! Вы не испытали, что значит дальняя дорога. Оборони вас и испытывать ее. А еще хуже браниться с этими бестиями станционными смотрителями, которые, если путешественник не генерал, а наш брат мастеровой, то всеми силами стараются делать более прижимок и берут с нас, бедняков, немилосердно штраф за оплеухи, которые навешает им генеральская рука». [93]
Тем временем девочки, похныкав, начали входить во вкус своей новой жизни. «Дети и не думают о доме, – писал Гоголь своей матери. – Я удивляюсь, как они так скоро могли забыть. Одна Анна иногда вспоминает, особливо когда иной раз долго придется дожидать лошадей». [94]
Как только коляска была кое-как починена и смазана, путешествие вновь возобновилось на фоне осеннего пейзажа, под безразлично равнодушным небом.
18 октября прибыли в Москву. Желтые листья устилали тротуары. На крестах и куполах церквей восседали сотни ворон. Небо, тяжелое и серое, давило на крыши. Гоголь распорядился закрепить большой зонтик над коляской, для того, чтобы восполнить нехватку откидного верха, совершенно дырявого. Для него не могло быть вопросов относительно того, чтобы покинуть город, не повидавшись с друзьями. Оставив сестер в гостинице с Якимом и Матреной, он помчался к С. Т. Аксакову, М. Н. Загоскину. Он также успел свести знакомство с Михаилом Максимовичем, профессором ботаники в Университете и собирателем украинских преданий, и с Осипом Бодянским, профессором-славистом и страстным украинофилом. Четыре дня разъездов туда-сюда, визитов, волнующих разговоров, и – в путь, в Санкт-Петербург.
Едва приехав в столицу, Гоголь отправляется в Институт – с тем, чтобы внести своих сестер в список воспитанниц. Но директриса, г-жа Л. Ф. Вистенгаузен, маленькая старая горбунья и педантка, принимает его холодно и упрекает в том, что он не подавал признаков жизни в течение четырех месяцев своего отсутствия. К тому же состав учениц уже полон, утверждала она, да и принимают в Институт только офицерских дочерей. После извинений и смущенных объяснений просителя она все же согласилась передать его ходатайство императрице. В этом ходатайстве, датированном 13 ноября 1832 года, в частности отмечалось, что господин Гоголь отказывается получать свой преподавательский гонорар в размере тысяча двести рублей в год, в случае если его сестры смогут быть приняты в учебное заведение.
В ожидании высочайшей резолюции Гоголь, всерьез принимавший свою роль старшего брата, составлял сестрам план чтения, водил их на прогулки, в театр, в зверинец, задаривал их игрушками и лакомствами. Матрена тоже была с ними очень ласкова. Но Яким неожиданно начал пить. Его хозяин заметил это и побил его. «Я Якима больно (недописано)», – признавался он в письме к матери. [95] Он становился раздражительным. Все чаще и чаще он поднимал руку на своего слугу и грозился его наказать.
Когда он потерял уже всякую надежду пристроить сестер, императрица уважила его прошение. Он смог препроводить девочек в Институт, где уже начались занятия. Предварительно Матрена завила им локоны и заставила их надеть форменные платья воспитанниц, из «дамского сукна», шоколадного цвета. Самой же ей было в ту пору тридцать один год. Согласно обычаю, она должна была оставаться около девушек, чтобы прислуживать им. Ночуя и питаясь в заведении, Якима она видела теперь очень редко, на что ни один, ни другая не сетовали сверх меры: господская воля – святое.
Анне и Елизавете казалось очень странным наблюдать своего собственного брата в качестве преподавателя. Когда они видели его важно говорящим с высоты кафедры, у них складывалось впечатление, что он играет роль, в которую сам не верит. А если б он надумал их спросить об этом, они умерли бы от стыда перед шушукающим, ухмыляющимся классом и – в большинстве случаев – избегали отвечать. Он же оставался с ними после занятий, разделяя с ними их полдники и доедая их баночки с вареньем, так как был из них наибольшим сластеной. Однако мало-помалу его посещения Института стали нерегулярными. Один день из двух он сказывался больным. В любом случае, ему не платили. Великодушная директриса оставила девочек, несмотря на отсутствие их брата.
Примерно в это время Гоголь сменил место жительства и обосновался в квартире на Малой Морской улице. Из соображений вкуса и экономии он брал на себя всякие хлопоты по дому, отделывая двери, прибивая полки, перекраивая шторы, с помощью Якима. Крутая и темная лестница, крошечная прихожая и две комнатки с окнами, выходящими во двор. Одна из этих комнат служила одновременно спальней, столовой и гостиной. Другая была рабочим кабинетом, где из мебели стояли диван, один стул, стол, заваленный книгами, и высокий пюпитр. Стены были украшены английскими резцовыми гравюрами – виды Греции, Индии, Персии, которыми Гоголь очень гордился. В этом скромном жилище он принимал, как прежде, своих друзей по Нежинской гимназии, а также и А. С. Пушкина, П. А. Плетнева и некоторых новых знакомых, среди которых был П. В. Анненков, молодой человек, с живым умом и большой любитель литературы. Обыкновенно Гоголь угощал своих друзей крепко заваренным чаем, плюшками и баранками. Но время от времени он устраивал ужины, расходы на которые делились между всеми приглашенными. В этом случае он сам готовил ватрушки, фрикадельки со сметаной или другие украинские блюда, густой запах которых распространялся на всю комнату. Взлохмаченный чуб, пестрый галстук вокруг шеи и фартук на животе – среди своих друзей он выглядел петухом, который хорохорится на пороге своей кухни.
Шутя, он всем своим друзьям дал прозвища, украсив их именами знаменитых французских писателей. Там были Виктор Гюго, Александр Дюма, Оноре де Бальзак. Один скромный приятель звался София Ге. Что касается П. В. Анненкова, то он был наречен (так никогда и не узнав, почему!) Жюлем Жанненом. Однако Гоголь не особенно жаловал французскую литературу. В целом, французы казались ему людьми легкомысленными, всегда занятыми тем, чтобы сбросить одну политическую власть и сменить ее на другую. Они продемонстрировали это еще раз в июле 1830 года, охотясь на бедного Карла Х. Писатели этого народа, полагал Гоголь, не могут быть серьезными. С особым пренебрежением он относился к Мольеру, которого упрекал в слабости интриг и в банальности развязок. Услышав, как Гоголь критикует автора «Мизантропа», А. С. Пушкин, возмущенный, возразил ему, заявив, что гений творца проявляется не в используемых драматических средствах, а в совокупности человечности, вложенной в произведение. В продолжение этого разговора, Гоголь вернулся к Мольеру и открыл для себя его величие. У него было абсолютное доверие к суждению Пушкина. Перед ним одним он ощущал себя порой управляемым и ведомым. Однако что отдаляло его от этого пылкого, смелого и благородного человека, то это пристрастие до карт и до женщин, его сопряженная с риском жизнь. Как мог такой великий поэт до такой степени быть привязанным к земным благам? Каким чудом ясность слога сочеталась у него с такой беспорядочностью жизни? Почему столько людей понимали его и любили? В противоположность Пушкину, Гоголь никогда не доверял порывам своей натуры. Будучи всегда настороже, он пристально всматривался в свое окружение, не открывая себя.