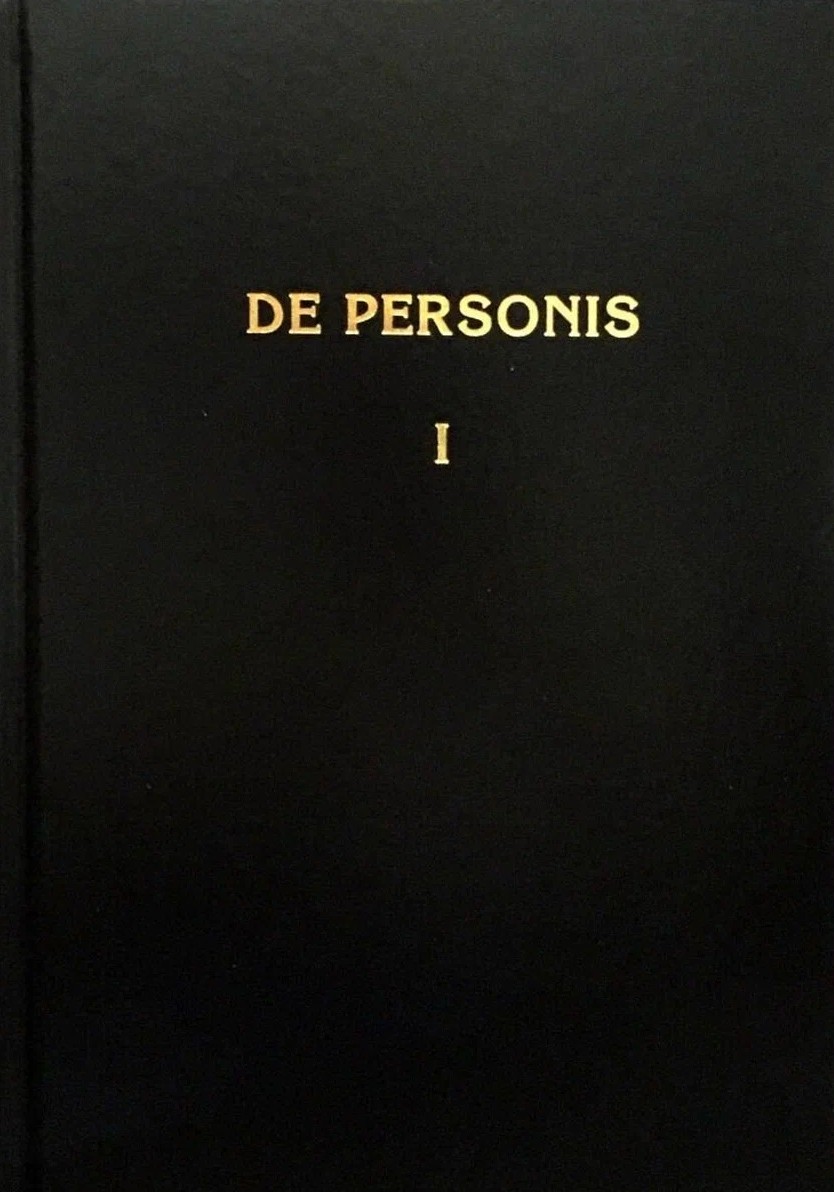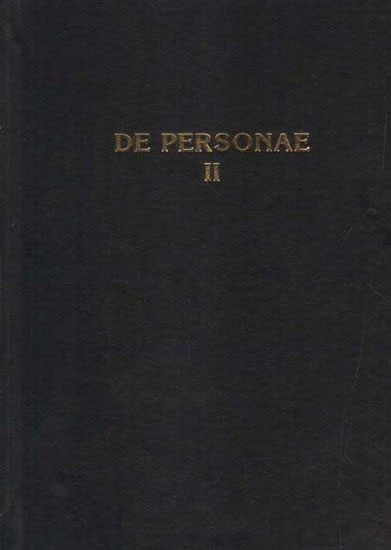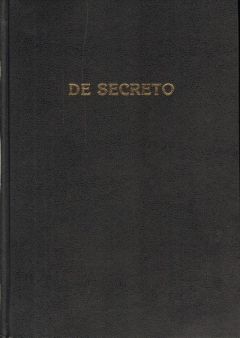№ 67 — «последние слова Христа», как их донесли до политиков евангелисты. Первой Лукач приводит выдержку из «Евангелия от Матфея» (27:46): «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?»
Эти слова ныне, как и прежде, способны разорвать душу, но Георг Лукач тем не менее, если быть верным истине, напрасно на них сослался. Парадокс излагаемой здесь драмы идей заключается в том, что ни Достоевский, ни его русские последователи, ни его адепт из Венгрии не разгадали, не расшифровали эти слова, приложили к ним неправильный масштаб, неадекватно истолковали их как жалобу Иисуса: «Какой бы разрывной эмоциональный заряд ни несли в себе эти предсмертные слова Иисуса, их смысл невозможно понять, если не учесть, что это — две строчки из псалма Давида: “Начальнику хора. При появлении зари. Псалом Давида. Боже мой! Боже мой! (внемли мне) для чего Ты оставил меня?” (Пс 21: 1-2). Иисус в свой смертный час пел псалом Давида, подобно тому как через полтора тысячелетия пели псалмы шедшие на смерть солдаты Кромвеля» [100].
Стоит пометить, что Лукач с великим философским энтузиазмом подхватил постановку вопроса о возможности и путях постатеистической веры, имплицитную романам Достоевского. Вопроса о вере после смерти Бога, возвещённой Гегелем и Ницше. В заметке № 42 Лукач сделал тонкое, хотя небесспорное, наблюдение: «Атеисты (Ставрогин, Иван) всегда провозглашают воззрения Достоевского». В заметке № 40 Лукач фиксирует конструктивную роль атеизма и нигилизма в творчестве и мировоззрении Достоевского: «Различие между Достоевским и другими (писателями): в том, что нигилизм является не убеждением, а переживанием… У Достоевского бог мёртв — у других: разъяснилось заблуждение. Поэтому лишь у Достоевского благодаря атеизму нечто происходит. (Базаров, Нильс Люне… они такие же, как всякий другой, — только не верят в бога)».
Отталкиваясь от Достоевского, Лукач проводит в заметке № 39 резкую черту, разделяющую русский атеизм и атеизм европейский: «Не существует никакого европейского атеизма, только русский (и буддистский). Следовало бы воспользоваться средневековым (способом) аргументации и сгруппировать атеистические аргументы, выделив среди них онтологические, физико–телеологические и моральные. Точно так же следовало бы центрировать всю проблему атеизма вокруг проблемы реализма (снова на средневековый манер: реализм = реализм понятий). Поскольку настоящий номинализм существует только в XIX веке (значение Фейербаха для России), имеется и точка отсчёта во времени: в Западной Европе, однако, осознаётся только как личная (эгоистическая) проблема (Нильс Люне): может возникнуть лишь атеистическое понятие героя (он представлен в России Базаровым). Но это есть трагически–динамический тип, который ведёт к линии Геббель — Ибсен — Пауль Эрнст: как можно умереть без бога? (Ницше со своим сверхчеловеком здесь не более чем побочная линия рядом с геббелевско–гегелевской). Достоевский же спрашивает: как можно так жить (без Бога. — С. З.) (Иван, Алёша). Или: что произойдёт (в космическом, а не в человеческом смысле)?» (пунктуация Г. Лукача, выделено им же. — С. З.)
Эта разделительная черта между европейским и русским атеизмом важна для венгерского философа, ибо она позволяет отчётливее разглядеть, к чему ведёт та или иная атеистическая позиция. В заметке № 10 Лукач отмечает в связи с Иваном Карамазовым: «Последнее колебание Ивана как типа атеиста: (колебание) между бытием и небытием Бога (атеисты этого типа верят в Бога; наверное, Кириллов представляет собой исключение). Отсюда как следствие небытия Бога (вытекает): не новая мораль, а (постулат) “всё дозволено”… Надо изобразить — намёком — нового, молчащего, нуждающегося в нашей помощи Бога и его верующих (Каляев), которые тоже считают себя атеистами». Террорист–эсер Иван Каляев как религиозный атеист, верующий в «нового, молчаливого, нуждающегося в нашей помощи Бога», — это предвосхищенная Достоевским и угаданная Лукачем ослепительно яркая фигура эпохи.
Венгерский мыслитель, размышляя о «революционере как мистике» (заметка R/a), обращается к текстам Фридриха Шпегеля и ссылается на следующее место: «Немногие революционеры, которые действовали во время революции, были мистиками, как это свойственно лишь французам этого века. Они конституировали свою сущность и деяние как религию, и в будущем это покажется высочайшим назначением и достоинством революции». И Лукач в заметке R/в стушёвывает революцию Маркса с помощью революции В. Ропшина (и Фридриха Шлегеля) и, что весьма характерно, с помощью двоебожия Маркиона: «Проблема Ропшина: борьба 1‑й этики (Розенштерн, Ипполит) и 2‑й этики (Болотов, Серёжа). Маркс: победа первой (этики): борьба против Иеговы (т. е. против ветхозаветного Яхве, Демиурга, против Бога справедливости и Закона, ненавистного Маркиону. — С. З.): развитие революционной идеи (отсутствие субстанции). Истинной жертвой революционера, стало быть, является (буквально): принести в жертву свою душу: из 2‑й этики сделать лишь 1‑ю. (Маркс: не пророк, а учёный). Опасность: фарисейство (реальная политика). В другом случае: этический романтизм. Необходимое, но не поволенное преступление (Болотов и кучер 338) — индивидуальное и коллективное преступление (Серёжа Слёзкин и Драгонер 132). Неизбежный грех (246): нельзя (убивать. — С. З.), но (убивать. — С. З.) надо». Лукач оперирует здесь ситуациями и фигурами из книг Бориса Савинкова [101]. Террорист под пером обоих авторов предстаёт как «святой грешник».
Как уже отмечалось выше, из смерти Бога и проистекающего отсюда подлинного — русского — атеизма, по Лукачу, возможны два следствия: во–первых, деятельность под лозунгом «всё дозволено»; во–вторых, деятельность в русле «новой этики».
Независимо от того, правильно или нет истолковал Лукач постулат «всё дозволено», все, кто придерживается его на практике, являются для Лукача преступниками.
Нужно, однако, учитывать, что Лукач в материалах к книге о Достоевском использует не юридическое, а этическое и философско–историческое понятие преступления. Что значит, по Лукачу, быть преступником? Это значит, согласно заметке № 19, «идти до конца (взрывать “институты”, 2‑я этика) совершать преступление (например, Рогожин — Мышкин)». Отсюда вытекает онтологическая, метафизическая значимость для венгерского философа криминального романа, к расцвету которого в XIX-XX вв. был причастен Достоевский: «криминальный роман», по формуле Лукача, — это «прорыв в действительности (заметка № 25). В криминальном романе происходит «выход из права и этики» (там же). Иными словами, Лукач совершенно по–маркионовски провозглашает разрыв с идущими от Иеговы, Демиурга, Бога–творца этикой, правом, законом. Имеется в виду, разумеется, 1‑я, объективированная формальная этика. Вообще же Лукач не убоялся повести разговор об «эстетической ценности преступления», он не отказывал преступлению и в этических оправданиях.
Преступника, террориста и революционера (двух последних в качестве «грешников поневоле») Лукач подводит под категорию «бунтаря», с её романтической подоплёкой (Байрон): «Периферическое в государстве как ослабление “признание” “затона” и “долг” “бунта” против него (дезертирство: эстетическое отвращение), пишет Лукач в заметке № 31 под рубрикой “Преступление”. — Поэтому государственный комплекс в целом может проходить по линии иеговического (естественный затон). (Под “иеговическим”,