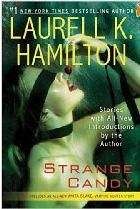Говорят, потом Домбровская обиделась на меня за то, что я сравнил ее где-то с Ожешко[202]. Под моим пером это был комплимент, но она считала себя гораздо более крупной писательницей — в чем я отнюдь не был уверен и не уверен по сей день.
Достоевский, Федор
Я преподавал Достоевского, и временами меня спрашивали, почему я не напишу о нем книгу. Я отвечал, что о нем написана целая библиотека книг на разных языках и что я не литературовед — ну разве что по совместительству. Однако на самом деле была и другая причина.
Это была бы книга недоверия, без которой вполне можно обойтись. Великий писатель, как никто другой из его современников, за исключением Ницше, повлиял на умы Европы и Америки. Сейчас, в конце столетия, имена Бальзака, Диккенса, Флобера или Стендаля известны не столь широко. Он использовал форму романа так, как это не удалось никому ни до, ни после него (хотя Жорж Санд и пыталась), для того, чтобы описать великое явление, которое он пережил изнутри и стремился постичь, — эрозию религиозной веры. Его диагноз оказался верным. Он предсказал последствия этой эрозии в умах русской интеллигенции. Русская революция нашла ключ в «Бесах» (что открыто признал Луначарский) и в «Легенде о Великом инквизиторе».
Несомненно, пророк. Но и опасный учитель. Бахтин своей книгой о поэтике Достоевского навязал нам гипотезу об открытии Федором Михайловичем полифонического романа. Именно благодаря полифоничности Достоевский был настолько современным писателем: он слышал голоса, множество сталкивающихся в воздухе, высказывающих противоположные идеи голосов — не все ли мы на нынешнем этапе цивилизации подвергаемся воздействию этого шума?
Однако у его полифоничности есть пределы. За ней кроется ревностный поборник идеи, русский милленарист и мессианист. Трудно найти что-нибудь более одноголосное, чем сцена с поляками в «Братьях Карамазовых». Столь грубая сатира не соответствует серьезности этой книги. А трактовка образа Ивана Карамазова свидетельствует о гораздо более эмоциональном отношении к герою, чем позволяет полифония.
Достоевского-идеолога пытались отделить от Достоевского-писателя, чтобы спасти его величие, подорванное досадными высказываниями, и гипотеза Бахтина очень в этом помогала. Однако, в сущности, можно сказать, что без русского мессианиста и его радения о России не было бы и международного писателя. Не только радение о России придавало ему сил, но и страх за будущее России заставлял его писать — чтобы предостеречь.
Был ли он христианином? Уверенности в этом нет. Может быть, он решил им быть, поскольку вне христианства не видел для России спасения? Впрочем, конец «Братьев Карамазовых» заставляет нас усомниться в том, находил ли его ум противовес для процессов разложения, которые он наблюдал. Неужели юный чистый Алеша во главе своих двенадцати учеников, словно отряда скаутов, — тот самый проект христианской России, который должен спасти ее от Революции? Слишком уж это слащаво и лубочно.
Достоевский избегал лубочности, искал сильные приправы. Именно на страницах его романов поселились поначалу грешники, бунтари, извращенцы и одержимые мировой литературы. Кажется, сошествие на дно греха и позора он считал непременным условием спасения, — но при этом создавал и образы про́клятых, таких как Свидригайлов или Ставрогин. И хотя он изображал многих героев сразу, все же одного из них он наделил собственным образом мыслей — это Иван Карамазов. Лев Шестов подозревает — и, кажется, справедливо, — что Иван выражает окончательную невозможность веры у Достоевского, вопреки положительным героям — старцу Зосиме и Алеше. И все-таки что провозглашает Иван? Он возвращает «билет» Создателю из-за одной слезинки ребенка, а затем рассказывает придуманную им «Легенду о Великом инквизиторе», смысл которой сводится к тому, что если нельзя осчастливить людей под знаком Христа, нужно стараться осчастливить их, сотрудничая с дьяволом. Бердяев говорит, что Ивану свойственна «ложная чувствительность» и что, вероятно, то же самое можно отнести к Достоевскому.
В письме к Фонвизиной Достоевский написал, что если бы ему пришлось выбирать между истиной и Христом, он выбрал бы Христа. Пожалуй, честнее те, кто выбирает истину, даже если на вид она противоречит Христу (так утверждала Симона Вейль). По крайней мере, они не полагаются на свою фантазию и не создают идола по своему подобию.
Существует нечто, способное склонить меня к значительному смягчению мнения: это тот факт, что толчком к созданию философии трагедии Льва Шестова послужил прежде всего Достоевский. Шестов очень важен для меня. Благодаря чтению его книг мы с Иосифом Бродским смогли прийти к интеллектуальному взаимопониманию.
Дрема, Владас
Художники сделали для Вильно больше, чем писатели. Дрема был моим университетским товарищем, студентом факультета изящных искусств. Этот факультет хранил добрые традиции прежнего университета начала девятнадцатого века. В 1937 году Дрема стал одним из основателей «Виленской группы», в которую входили польские, еврейские и литовские живописцы. Кстати, среди художников с международным именем, учившихся раньше в Вильно, можно перечислить Хаима Сутина, скульпторов Антокольского и Липшица, а также немного менее известных Фердинанда Рущица, Людомира Слендзинского[203] и Витаутаса Кайрюкштиса. Впрочем, я с волнением смотрю и на репродукции картин и рисунков многих других — трудолюбивых и порой очень хороших.
Дрема сохранился в моей памяти скорее как физическое присутствие, нежели как форма лица. Он немного склонялся к коммунизму, как и его друг Адомавичюс[204], литовский поэт, писавший под псевдонимом Кекштас, что объясняет связь Дремы с «Жагарами», где он, кажется, даже опубликовал какую-то заметку.
Когда в 1992 году я вернулся в Вильно после пятидесяти двух лет отсутствия, я не застал там никого из людей, ходивших когда-то по его улицам. Всех их убили или вывезли, или же они эмигрировали. Однако я узнал, что жив Дрема, и решил его навестить. Мне дали адрес в Литературном переулке. Да ведь это та самая подворотня, где жил я, — только зияющая пустотой, ибо старинная дверь, утыканная толстыми металлическими шипами, исчезла. Лестница направо? Но ведь именно там в 1936 году я снимал комнату у старой дамы, жившей в квартире, полной этажерок и безделушек. Оказалось, что впоследствии в этой квартире много лет жил Дрема. В конце концов мне дали его новый адрес.
У него был паралич нижней части тела, и он лежал, окруженный заботами жены, сына и дочери. Кажется, он находился в стороне от главных событий — не только из-за болезни. Ему не воздавали должных почестей как историку Виленского искусства, автору книги о живописце Кануте Русецком[205] (вспомните колонию художников в Риме в 20-е годы XIX века) и многочисленных трудов и статей. Однако прежде всего он был автором монументального труда, который так трогает меня, что хочется навсегда сохранить память о его создателе. Вильно обладает поразительной, не поддающейся рациональному объяснению особенностью, какой-то магией, благодаря которой люди влюбляются в этот город, словно в живое существо. На протяжении более чем двух столетий множество художников и графиков обращалось к теме архитектуры и видов Вильно. Дрема собрал эти произведения кисти и резца в прославляющий прошлое города альбом «Dinges Vilnius», то есть «Исчезнувший Вильнюс», изданный в 1991 году тиражом сорок тысяч экземпляров. Это — насчитывающая четыреста страниц иллюстрированная история Виленской архитектуры со старыми картами и такой прекрасной колористикой, что книга ничем не напоминает бесчисленные альбомы, напечатанные на мелованной бумаге. Вильно изображали поляки, литовцы, евреи и русские, причем среди последних были истинные ценители, как Трутнев[206] во второй половине девятнадцатого века. Не предать их забвению, собрать их вместе таким образом, чтобы они сосуществовали как бы по принципу необходимости, — какой труд для этого нужен и какая внимательность! Только большая любовь способна создать такую книгу, и я пишу эти слова, чтобы почтить память Дремы. Не думал я в свое время в Вильно нашей молодости, что именно он останется единственным живым среди теней и станет светлым образом, одним из тех, чей пример нас укрепляет.