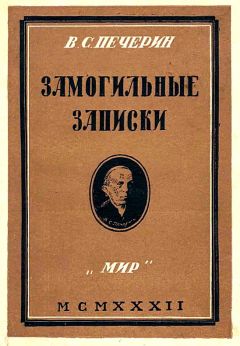Каково? — Запечатлели ли мы эту минутную дружбу прощальным лобзанием — не помню — кажется; но это уж слишком скоромное воспоминание — не годится в великий пост.
Есть милые неотразимые образы: ни время, ни расстояние не могут их остановить; они вечно преследуют вас, как светлые видения лучших невозвратных дней.
Горе мне! какие звуки!
Пламень душу всю проник:
Милый слышится мне голос!
Милый видится мне лик!
Бесприютным нищим я прошел по дороге жизни. Издали виднелись царские дворцы и белые палаты богачей и звуки их веселия достигали слуха моего; но мне не позволено было остановиться и насладиться их гармониею. Иногда теплые ветерки навевали мне благоухания роз и ясминов из садов Армиды: ах! какое сладостное ощущение! как должно быть привольно в этих тенистых рощицах, на берегу этих зеркальных прудов, среди этих милых резвых видений! Но увы! это не для меня! пойдем далее! Постойте! Вот у самой дороги на закраине прелестный цветочек. Дай остановлюсь хоть на минуточку, полюбуюсь его радужными красками, упьюсь его раскошным благовонием… Нет! нет! невозможно! Вперед! вперед! кричит неумолимая судьба. Напрасно я протестую и говорю с Шиллером:
Auch ich war in Arkadien geboren![140]
«Пошел ты с своей Аркадией!» сурово кричит судьба, словно какой-нибудь прусский вахмистр: «Vorwarts! Вперед! вперед!» И я послушно иду вперед, вперед, вперед — и земля вертится подо мною —
Et la terre tourne
Toujours,
Toujours.[141]
Недавно один мудрец из Латинского квартала в Париже, взглянувши на меня, сказал: «Voilá le juif errant!»[142] Это доказывает, что у французов мозг еще не совсем размягчился и что они еще способны иногда угадывать правду.
Настал день — серый зимний день. Вместо саней подвезли маленький дилижанс, где я был единственным пассажиром. Лихой парень каких-нибудь 22 лет соединял в себе должности кучера и кондуктора и тотчас завязал со, мною разговор. Он хвастался мне, что эта барышня в Госпендале — его кузина, и что он не раз с нею танцовал на бале… Счастливый соперник! думал я.
Странно ехать по Швейцарии зимою. Все ее живые прелести задернуты каким-то однообразным сибирским саваном. Эти гордые великолепные водопады, стремящиеся с громом и треском, рассыпающиеся радужною пылью — теперь очень смиренно и очень прозаически висели ледяными сосульками по серым скалам, точно как будто клочки инея на бороде русского мужичка.
Я только что отобедал в гостинице в Цюрихе и заплатил последних два франка, вдруг подходит ко мне молодой человек с газетою в руках — кажется Nouvelliste vaudois[143] — и указывает на следующую статью:
«Два патриота, Г. Банделье и кто-то другой, арестовали в Бьенне французского шпиона Кузена, т.-е. они повалили его на землю и силою выхватили у него из-за пазухи какие-то секретные бумаги».
«Этот Банделье — я сам», сказал молодой человек.[144] — «Ах, боже, мой, отвечал я: я очень рад с вами познакомиться»
Quel honneur!
Quel honheur!
Monsieur le Senateur![145]
Судьба решительно мне благоприятствует, думал я: как же, с самого первого шагу в Цюрихе познакомиться с таким важным политическим деятелем!
Надобно знать, что из-за этого им арестованного Кузена сделалась ужасная суматоха и Тьер обложил Швейцарию герметическою блокадою (blocus hermetique)[146].
«Позвольте вам еще доложить», сказал опять г. Банделье, — «что я тоже участвовал в Савойской экспедиции». — Et je vous en félicite![147] сказал я. Но она как-то не удалась. — «Да что ж тут делать! Ведь это все измена! trahison!» — Ну а Маццини был там? — Нет! помилуйте! Как же этакую драгоценную жизнь подвергать опасности?»
А! понимаю: т.-е. я теперь понимаю, что в подобных случаях Маццини всегда как-то удачно умел оставаться в стороне, а между тем многие прекрасные юноши из-за него легли костьми, как говорится в Полку Игореве.
Этот Савойский поход кончился самым позорным образом. Несколько сардинских таможенных карабинеров разогнали всю эту шайку или армию под предводительством генерала Ромарино, а сам Ромарино удалился с честию, не забывши однако ж взять с собою казенного ящика для большей предосторожности [148].
Так началось мое знакомство с г. Банделье, имевшее важное влияние на мои последующие поступки.
Я тотчас же перебрался в так называемый пансион у г. Артера, музыкального учителя (Musiklehrer). Это был старый, престарелый дом. На норманской арке над дверью было вырезано число: 1592. Каков старик?
Почти три месяца я жил в этом доме, от конца декабря до половины марта, — сидел у моря и ждал погоды, т.-е. письма от тебя; да уж и начал отчаиваться: какая ж тут надежда, когда на мое письмо, отправленное в ноябре, не было ответа до марта месяца. Моим единственным приятелем был этот Банделье. Я у него проводил, каждый вечер. Он жил по-республикански, т.-е. с какою-то женщиною. У ней, как говорится, не было ни кожи, ни рожи, даже она была крива на один глаз; mais cela n‘empèche pas le sentiment[149]; да к тому же давно уже известно, что любовь слепа, а особенно любовь республиканская. Эта девка была нечто в роде тех знаменитых гризеток, воспеваемых Жорж Зандом. Банделье жил у нее на содержании, т.-е. она кормила его своими трудами, шитьем, мытьем да катаньем. Ты можешь себе вообразить, какие это были беседы: тут не надобно было ожидать ни ума, ни грации: тут просто был обыкновенный республиканский жаргон, распущенность и неряшество.
Под конец нашего знакомства Банделье признался мне, что он был священником в кантоне Валэ (Valais). Ему, казалось, было стыдно в этом сознаться: он приводил тысячу разных извинений. «Войдите в положение нашего брата», говорил он: «священник идет в исповедню (confessional), к нему приходит на исповедь молодая женщина, и напрямик объявляет ему, что она до смерти в него влюблена; ну как же молодому человеку устоять против этаких искушений?» — Помилуйте, да зачем же вам в этом извиняться? Ведь это общий удел человечества — это древняя история: Адам ссылается на Еву, а Ева сбрасывает вину на змия; а матушка-природа исподтишка хохочет над ними. Ведь какие мы выкидываем штуки! Сочиняем целые Илиады — Троя сгорает дотла, Клитемнестра убивает Агамемнона — ужасные трагедии разыгрываются в царственных домах — целые государства ставятся вверх дном, а все из-за чего? — да просто для того, чтоб исполнить закон распложения пород (propagation des espèces). Природа действует по иезуитскому правилу: la fin justfie les moyens[150]. Ей все нипочем, лишь бы достигнуть своей цели. Мы после и плачем и мечемся как угорелые кошки и деремся до крови, а ей что за дело? Она думает только об исполнении своих планов. Ей-богу, природа хитра, даже хитрее самого Бисмарка!