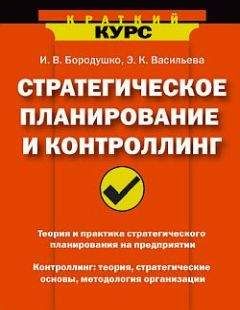На этом история не заканчивается. В октябре 1941 года в Москву для переговоров с советским правительством приехал министр авиационной промышленности и очень близкий к Черчиллю человек Макс Бивербрук. Во время одной из встреч со Сталиным зашла речь об апрельском послании Черчилля, на что глава СССР ответил, что он «не помнит об этом предупреждении».
Когда реплика Сталина дошла до нашего героя, он пришел в бешенство. Британский премьер тут же связался с Иденом:
«Это было единственное послание, которое я направил лично Сталину до нападения Германии на СССР. Оно было немного зашифровано, ввиду огромного значения передаваемой в нем информации. Краткость этого послания и тот исключительный способ коммуникации с передачей письма одного главы государства другому главе государства через посла должны были обратить внимание Сталина. Это просто удивительно, что посол набрался наглости задержать эту телеграмму на шестнадцать дней и вручить ее Вышинскому. Возможно, она так никогда и не достигла Сталина или была передана ему мимоходом. Криппс несет огромную ответственность за столь твердолобое и тормозящее поведение»[228].
Если бы Черчилль знал, как функционирует советская партийная машина, он наверняка был бы менее категоричен. В Кремле без ведома главы СССР даже муха не могла сесть на стекло, а такого, чтобы верный Вышинский, с которым Сталин сидел в Баку в одной тюремной камере, не передал бы ему письмо от главы другого государства, и быть не могло. Верховный, конечно, получил эту телеграмму. Просто для Сталина все эти письма с предупреждениями были не чем иным, как попытками западных держав спровоцировать его на войну с Германией.
В октябре 1942 года, во время визита в Москву, Черчилль вновь вернется к своему посланию. Обращаясь к Сталину, он скажет:
— Лорд Бивербрук сообщил мне, что во время его поездки в Москву в октябре 1941 года вы спросили его: «Что имел в виду Черчилль, когда заявил в парламенте, что он предупредил меня о готовящемся германском нападении?» Да, я действительно заявил это, имея в виду телеграмму, которую отправил вам в апреле 1941 года.
И в этот момент Черчилль достал злополучный документ. Когда он был прочтен и переведен, Сталин лишь пожал плечами.
— Я помню, — сказал он. — Мне не нужно было никаких предупреждений. Я знал, что война начнется, но я думал, что мне удастся выиграть еще месяцев шесть или около того.
Как потом вспоминал Черчилль:
«Во имя нашего общего дела я удержался и не спросил, что произошло бы с нами всеми, если бы мы не выдержали натиска, пока он предоставлял Гитлеру так много ценных материалов, времени и помощи»[229].
Все эти перипетии с телеграммой не смогли отвлечь Черчилля от главной цели — приобретение во что бы то ни стало нового союзника. В пятницу вечером 20 июня 1941 года Черчилль отправился на уик-энд в загородную резиденцию британских премьер-министров Чекерс. Позже он скажет:
«Я знал, что нападение Германии на Россию является вопросом дней, а может быть, и часов. Я намеревался выступить в субботу вечером по радио с заявлением по этому вопросу. Разумеется, мое выступление должно было быть составлено в осторожных выражениях, тем более что в этот момент Советское правительство, в одно и то же время высокомерное и слепое, рассматривало каждое наше предостережение просто как попытку потерпевших поражение увлечь за собой к гибели и других. Поразмыслив в машине, я отложил свое выступление до вечера воскресенья, когда, как я думал, все станет ясным»[230].
К воскресенью действительно все прояснилось. Когда Черчилль проснулся, ему сообщили, что в 4 часа утра войска вермахта пересекли границу СССР. Наступление идет по широкому фронту. У Красной армии ожидаются тяжелые потери в технике и людях.
«У меня не было ни тени сомнения, в чем заключаются наш долг и наша политика, — напишет Черчилль спустя годы. — Не сомневался я и в том, что именно мне следует сказать. Оставалось лишь составить заявление. Я попросил немедленно известить, что в 9 часов вечера я выступлю по радио. Весь день я работал над своим заявлением. Я не имел времени проконсультироваться с военным кабинетом, да в этом и не было необходимости. Я знал, что в этом вопросе мы все мыслим одинаково»[231].
У Черчилля и в самом деле не было времени собирать кабинет. В тот день в Чекерсе гостили Энтони Иден и Макс Бивербрук. Также срочно был вызван Стаффорд Криппс, который в этот момент находился в Англии. Лорд Бивербрук заметил, что «верит в силу и способности русских противостоять врагу». Криппс был менее оптимистичен. Он обратил внимание присутствующих на «целый ряд трудностей, с которыми придется столкнуться России в борьбе с блицкригом».
Черчилль не вступал в дискуссию. По словам Бивербрука: «Он в основном слушал, лишь иногда задавая вопросы. Затем Уинстон вышел в сад и некоторое время пробыл под палящими лучами солнца на жаре. После чего снова собрал нас для принятия окончательного решения. На самом деле это решение сложилось в его голове заранее — России должна быть оказана повсеместная помощь. Это решение было принято без согласования с кабинетом. Это решение было принято без оглядки на возможную критику (даже безмолвную) со стороны некоторых кругов его собственной партии и представителей СМИ»[232].
Черчилль сделал шаг вперед навстречу Советскому Союзу, отлично понимая, что в столь критический час ни реакция прессы, ни хула консерваторов не могли изменить тот простой и страшный факт, что в истории Второй мировой войны начался новый, самый жуткий и самый кровопролитный этап.
Определившись с внешнеполитическим курсом, Черчилль занялся подготовкой текста своего предстоящего выступления по радио. С небольшими перерывами он проработал над речью весь день. Джон Колвилл записал в своем дневнике:
«Речь премьер-министра была готова всего за двадцать минут до начала выступления. Я очень сильно нервничал, но еще больше нервничал Иден, который хотел просмотреть текст и все никак не мог это сделать. Когда же Уинстон показал нам законченный вариант, мы были все потрясены — речь была наполнена драматизмом и четко описывала нашу политику, направленную на поддержку России»[233].
В 9 часов вечера Черчилль выступил по Би-би-си перед британцами, Советским Союзом и всем миром:
«За последние 25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое я сказал о нем. Но все это бледнеет перед развертывающимся сейчас зрелищем. Прошлое с его преступлениями, безумствами и трагедиями исчезает. Я вижу русских солдат, стоящих на пороге своей родной земли, охраняющих поля, которые их отцы обрабатывали с незапамятных времен. Я вижу их охраняющими свои дома, где их матери и жены молятся — да, ибо бывают времена, когда молятся все, — о безопасности своих близких, о возвращении своего кормильца, своего защитника и опоры. Я вижу десятки тысяч русских деревень, где средства к существованию с таким трудом вырываются у земли, но где существуют исконные человеческие радости, где смеются девушки и играют дети. Я вижу, как на все это надвигается гнусная нацистская военная машина с ее щеголеватыми, бряцающими шпорами прусскими офицерами, с ее искус ными агентами, только что усмирившими и связавшими по рукам и ногам десяток стран. Я вижу также серую вымуштрованную послушную массу свирепой гуннской солдатни, надвигающейся подобно тучам ползущей саранчи. Я вижу в небе германские бомбардировщики и истребители с еще незажившими рубцами от ран, нанесенных им англичанами. За всем этим шумом и громом я вижу кучку злодеев, которые планируют, организуют и навлекают на человечество эту лавину бедствий. Я должен заявить о решении правительства Его Величества, и я уверен, что с этим решением согласятся в свое время великие доминионы, ибо мы должны высказаться сразу же, без единого дня задержки. Удвоим свои усилия и будем бороться сообща, сколько хватит сил и жизни»[234].