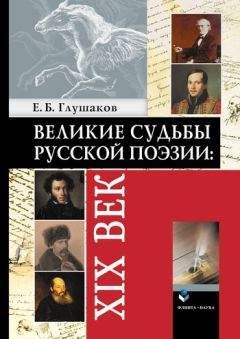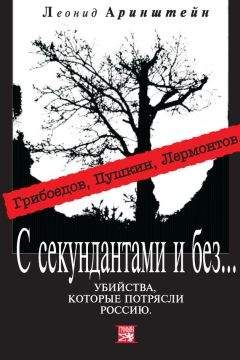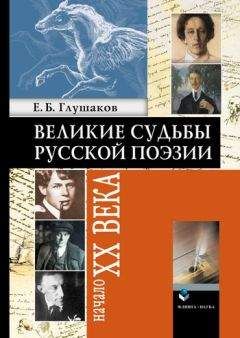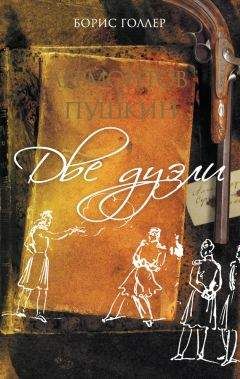Летом 1840-го поручик Лермонтов был прикомандирован к отряду генерал-лейтенанта Галафеева, направлявшегося в экспедицию по Большой и Малой Чечне. 11 июля у речки Валерик произошло генеральное сражение, в котором со стороны русских действовало две тысячи штыков, со стороны горцев – шесть тысяч сабель. Михаил Юрьевич ввиду проявленного мужества был представлен к награде золотой саблей. Однако представление не было удовлетворено. Очевидно, «жадною толпой стоящие у трона» не соизволили поставить на нём положительной резолюции.
Однако храбрость вновь прибывшего поручика оценена непосредственным начальством, и под его команду поступает сотня казаков, нечто вроде партизанского отряда, с которым он совершает удалые набеги на неприятеля. Но и в последующих представлениях к наградам имя его непременно вычёркивается высшим командованием. В эту пору в Галафеевском отряде вместе с Лермонтовым воюет и Николай Мартынов, ротмистр Гребенского казачьего полка, вероятно, тоже не за примерное поведение направленный сюда из кавалергардов, к которым был причислен по окончании Юнкерской школы. Люди, ежечасно рискующие погибнуть от любой шальной пули неприятеля, очевидно, не испытывают потребности ни шутить друг над другом, ни обижаться на не слишком удачную фразу собеседника. Ну а чтобы вызывать к барьеру и наставлять друг на друга пистолетные дула – на войне вряд ли случается, ибо выглядело бы смешно и нелепо. Посему в эту пору бывшие школьные товарищи общались мирно, беседовали задушевно, не ссорились. А между тем как было поэту не подумать о завещании, хотя бы поэтическом, когда смерть, казалось, носилась по горным ущельям за его удалой сотней, угрожая настигнуть в любой момент.
ЗАВЕЩАНИЕ
Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть:
На свете мало, говорят,
Мне остаётся жить!
Поедешь скоро ты домой:
Смотри ж… Да что? моей судьбой,
Сказать по правде, очень
Никто не озабочен.
А если спросит кто-нибудь…
Ну, кто бы ни спросил,
Скажи им, что навылет в грудь
Я пулей ранен был;
Что умер честно за царя,
Что плохи наши лекаря
И что родному краю
Поклон я посылаю.
Отца и мать мою едва ль
Застанешь ты в живых…
Признаться, право, было бы жаль
Мне опечалить их;
Но если кто из них и жив,
Скажи, что я писать ленив,
Что полк в поход послали
И чтоб меня не ждали.
Соседка есть у них одна…
Как вспомнишь, как давно
Расстались!.. Обо мне она
Не спросит… всё равно,
Ты расскажи всю правду ей,
Пустого сердца не жалей;
Пускай она поплачет…
Ей ничего не значит!
Так оно и случится, что он будет ранен «навылет в грудь» и честно умрёт. Строки пророческие. Да и сотня его отчаянных казаков немногим переживёт своего командира-поэта, но вскоре после его гибели нарвётся на чеченскую засаду и будет вся изрублена. Впрочем, эта ремарка относится к заключительному действию трагедии, которое будет разыграно чуть позднее…
Только в декабре 1840 года, отбыв свою командировку в Галафеевском экспедиционном отряде, Михаил Юрьевич явился в станицу Ивановскую, где располагалась штаб-квартира Тенгинского полка, и был в него зачислен. Между тем Елизавета Алексеевна, бабушка поэта, напуганная военными опасностями, окружающими её любимого внука, выхлопотала для него отпуск. По дороге из Ставрополя в Петербург и родилось стихотворение, которое, как считал Белинский, было бы из лучших и у самого Пушкина.
РОДИНА
Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит её рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни тёмной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю – за что, не знаю сам —
Её степей холодное молчанье,
Её лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек её, подобные морям;
Просёлочным путём люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спалённой жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь жёлтой нивы
Чету белеющих берёз.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.
Это уже не «Прощай, немытая Россия…». Полупрезрительное отношение к родине сменилось, пусть и слабо мотивированной, но всё-таки любовью. А как же иначе: ведь он уже и повоевал за своё отечество, и потрудился на благо его как писатель. Подобные признания для Байрона были бы, пожалуй, невозможны. Как видно, Лермонтов уже вырос из романтических распашонок. Слог его становится всё проще и безыскуснее, а описываемые чувства всё реальнее. А в стихотворении «Спор» уже звучит и прямая гордость за своё великое отечество, причём не в историческом плане, как было в «Бородино», а вполне современно.
СПОР
Как-то раз перед толпою
Соплеменных гор
У Казбека с Шат-горою[1]
Был великий спор.
«Берегись! сказал Казбеку
Седовласый Шат, —
Покорился человеку
Ты недаром, брат!
Он настроит дымных келий
По уступам гор;
В глубине твоих ущелий
Загремит топор;
И железная лопата
В каменную грудь,
Добывая медь и злато,
Врежет страшный путь!
Уж проходят караваны
Через те скалы,
Где носились лишь туманы
Да цари-орлы.
Люди хитры!
Хоть и труден
Первый был скачок,
Берегися! многолюден
И могуч Восток!» —
Не боюся я Востока,
Отвечал Казбек,
Род людской там спит глубоко
Уж девятый век.
Посмотри: в тени чинары
Пену сладких вин
На узорные шальвары
Сонный льёт грузин;
И склонясь в дыму кальяна
На цветной диван,
У жемчужного фонтана
Дремлет Тегеран.
Вот – у ног Ерусалима,
Богом сожжена,
Безглагольна, недвижима
Мёртвая страна;
Дальше, вечно чуждый тени,
Моет жёлтый Нил
Раскалённые ступени
Царственных могил.
Бедуин забыл наезды
Для цветных шатров
И поёт, считая звезды,
Про дела отцов.
Всё, что здесь доступно оку,
Спит, покой ценя…
Нет, не дряхлому Востоку
Покорить меня! —
«Не хвались ещё заране! —
Молвил старый Шат, —
Вот на Севере в тумане
Что-то видно, брат!»
Тайно был Казбек огромный
Вестью той смущён,
И, смутясь, на север тёмный
Взоры кинул он;
И туда в недоуменье
Смотрит, полный дум:
Видит странное движенье,
Слышит звон и шум.
От Урала до Дуная,
До большой реки,
Колыхаясь и сверкая,
Движутся полки;
Веют белые султаны,
Как степной ковыль;
Мчатся пёстрые уланы,
Подымая пыль;
Боевые батальоны
Тесно в ряд идут,
Впереди несут знамёны,
В барабаны бьют;
Батареи медным строем
Скачут и гремят,
И, дымясь, как перед боем,
Фитили горят.
И испытанный трудами
Бури боевой,
Их ведёт, грозя очами,
Генерал седой.
Идут все полки могучи,
Шумны, как поток,
Страшно-медленны, как тучи,
Прямо на восток.
И томим зловещей думой,
Полный чёрных снов,
Стал считать Казбек угрюмый
И не счёл врагов…
Грустным взором он окинул
Племя гор своих,
Шапку на брови надвинул
И навек затих.
Почти тотчас по возвращении в Петербург поэт отправился на бал к графине Воронцовой-Дашковой и был замечен там Великим князем Михаилом Павловичем. Появление опального офицера на балу, посещаемом царственными особами, сочли неприличным и дерзким. Впрочем, благодаря хлопотам влиятельных родственников скандал, было разразившийся, замяли.