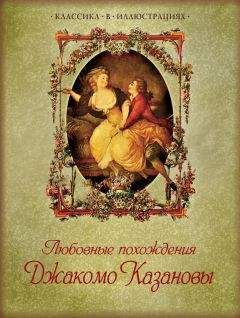Он исчез, когда выяснилось, что во время войны, хотя он действительно сначала был танкистом, но потом перешел в интенданты, горел уже на складе, спьяну. Мы, естественно, над ним посмеивались. В Питере Орлов прославился стихотворением «Его зарыли в шар земной,/А был он лишь солдат». Кто-то из нас быстро сообразил, что это просто переделка маршаковского перевода из Вордсворта («Люси»):
«Ей в колыбели гробовой
Вовеки суждено
С горами, морем и травой
вращаться заодно».
А еще одно его стихотворение «Концерт в лесу» наполовину списано с «Леди Гамильтон» Антокольского.
Обо всех этих микроплагиатах критик С. Трегуб разразился в «Литературке» довольно грубой, хотя и справедливой статьёй «Чужой концерт в чужом лесу», которую закончил иронической хвалой «молодым поэтам, которые, желая влететь в литературу на третьей скорости, нахально дают чужой концерт в чужом лесу». («Третья скорость» — название первой книжки Сергея Орлова
Подобное «руководство» привело к тому, что многие молодые поэты вообще перестали посещать объединение и предпочли общаться на квартирах у тех, у кого было место.
Начинался «кухонный период русской литературы».
Чтобы закончить с объединением, надо упомянуть, что чуть позже, когда меня в Питере уже не было, руководить им назначили «последнего акмеиста» Всеволода Александровича Рождественского. Хотя Рождественский и был трусоват, и свои собственные стихи не раз портил, по три раза их иногда переделывая в угоду политическому моменту, он все-таки принадлежал к большой и старинной культуре.
Что же касается Сергея Орлова, то он, естественно, довольно быстро получил «повышение»: через пару лет после ухода из объединения стал заведовать отделом поэзии в недавно открытом, новом журнале «Нева».
--------------------
Итак — Юля Стефановская. Высокая, каштаново-рыжая с пронзительными рыжими же глазами. Она очень интересно, иногда даже парадоксально, высказывалась о классической литературе. Она хорошо играла на гитаре, пела старинные романсы, часть из которых я смутно помнил с детства, но большинство услышал от неё впервые. А она все эти романсы знала от своей матери, санаторного врача в Кисловодске. По её словам, когда был жив её отец, военный врач, в прошлом польский офицер, поздней расстреляный, они с матерью часто пели дуэтом и русские романсы, и польские песни.
По знанию старинных романсов только Вика Уманская (меццо, переходивший в контральто) могла с Юлей поспорить…
И попробуйте-ка в 19 лет не влюбиться, если вам в старинной манере Х1Х века хорошим контральто под переборы, почти цыганские, поют:
Ах оставьте, ах оставьте,
ваша шутка не нова,
Не лукавьте, не лукавьте,
всё слова, слова, слова…
Или ещё более нелепую чушь:
Капризная, упрямая,
Вы сотканы из роз…
И в эту чушь, и в неё саму я и был смешно влюблён, но (вернее именно поэтому!) о близости речи не было — несмотря на весьма вольные её взгляды во всём, что касалось литературы, и даже несмотря на то, что и она вроде бы ко мне привязалась как-то, она была "непреклонна". В основном, как понимал я, удивляясь её наивной старомодности, она «берегла девственность» потому, что жених у неё был в Кисловодске, и она колебалась: «ему слово дала, а с тобой всё как-то интереснее».
Я же "понять её не мог", — ну дофонвизинские какие-то взгляды…
День рождения Юли — 25 лет — праздновали мы с шиком, в Астории вчетвером — (Лена Дрыжакова не смогла пойти) — я, Вика, Люся Князева и сама виновница торжества.
Попали мы в Асторию в первый раз в жизни. Взяли какую-то бутылку вина и что-то с крабами. Удивлялись ещё девочки, что за потраченную сумму мы могли бы в магазине ближайшем купить не менее пяти бутылок таких точно.…
Ночью пешком пришли ко мне втроём — Князева куда-то потерялась по дороге, но часом позже пришла-таки. Ворота были заперты, так она под ними пролезла во двор и поднялась по чёрной лестнице.
А через день в Институте скандал, собрания всякие, шум, «ставится вопрос о недостойном поведении студентов…». Короче, за этот поход в ресторан Юлю лишили аспирантуры, несмотря на энергичнейшие протесты Д. Е. Максимова, меня — долой из комсомола, где я тогда, к сожалению, «состоял» и из института заодно. Остальным двум — выговоры.
Через три дня и меня, и Юли в Питере и след простыл.
А Вику Уманскую таскали в ГБ (или как там тогда именовалась главная реальная власть в стране? Не помню. Она всё время меняла названия, как, впрочем, и теперь…)
Вику расспрашивали обо мне и Порховнике, пугали, что нигде больше учиться ей не позволят. Но она и сама не очень-то настаивала на обязательности для себя высшего образования. Из института она ушла и на этом всё кончилось, про нас забыли. А Порховника даже и не побеспокоил никто. А позднее, в шестидесятых, стал он видным питерским адвокатом.
Для всех знакомых мы с Юлей «на Кавказ поехали». Так оно и было, только возвращаться осенью мы не собирались, решив года на два, на три исчезнуть из обращения, авось забудется. Было это вовсе не наивно: ещё в тридцатых годах при массовых посадках люди так поступали, многим именно так удалось уцелеть.
Вообще-то я уверен в некоторой неуязвимости людей моего типа — легкомыслие спасает.
Вот Надежда Яковлевна Мандельштам пишет, что «нет таких сумасшедших», чтобы бросить квартиру или даже комнату, и уехать куда-то, однако сама же приводит пример женщины, которая так спаслась от ареста.
А я слышал, что в тридцатых-то годах таких людей было немало, а вот в конце сороковых, мне кажется, почти все были как замершие кролики перед удавом, и таких легкомысленно спасшихся «сумасшедших» как мы было, и верно, немного. Но это не сумасшествие, а легкомыслие бродяжьего духа. Хлебниковский синдром, что ли….
Понятно, что «дело о ресторане» было только толчком, ведь цель партийной организации института была в том, чтобы разгромить наш литературный кружок, наказать его участников и, главное — отрапортовать куда-то «наверх» о своей бдительности в то время, когда всюду кого-то «разоблачали».
Ведь не мог же наш Институт остаться в стороне! Тут мы и подвернулись со своим «кутежом». Так что и Т. К. Трифонова, и секретарь партбюро, бывший «двадцатипятитысячник», были довольны, я думаю, даже втайне благодарны нам, что дали мы им повод отличиться.