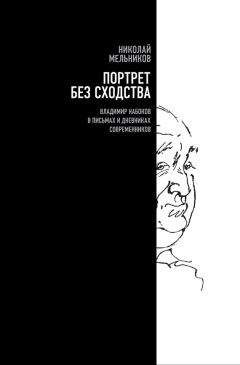Владимир Марков – Глебу Струве, 22 июля 1967
<…> Гершенкрон (кто он, кстати?) о Набокове мне понравился. Набокова стоило давно (при всем им восхищении) хорошенько высечь, и Гершенкрон делает это удачно – но только вначале, к концу он как-то выдыхается, а главное, хотя формально он отдает должное и плюсам Набокова, он как-то невыпукло подает эти плюсы, а у Набокова в комментариях есть несколько замечательных мест. Критик должен уметь и восхищаться где надо. <…>
Из дневника Корнея Чуковского, 15 августа 1967
<…> Какая мутная, претенциозная чушь набоковское «Приглашение на казнь». Я прочитал 40 страничек и бросил. <…>
… 8 ноября 1967
<…> Я вспомнил Влад. Влад. Набокова – когда он был мальчиком – балованным барчуком. Я пришел к ним – к его отцу – он жил в особняке на Б. Морской. Я, полунищий литератор, обремененный семьей, пришел по его приглашению, и как высокомерно взглянул на меня юный миллионер! И сразу заявил, что ему гораздо дороже и ближе, чем я, – Валериан Чудовский, кропавший в «Аполлоне» какие-то претенциозные статейки. <…>
Корней Чуковский – Надежде Малышевой, 21 декабря 1967
<…> Сейчас я писал воспоминания о Бунине, Сологубе, Вал. Брюсове – и для отдыха хочу написать (по заказу «Нового мира») статейку о набоковском «Евгении Онегине». Против моей воли статья получается разгромная. Зачем я пишу Вам об этом, не знаю. <…>
Из дневника Марка Шефтеля, 20 января 1968
<…> В пятницу после полудня – организованная Иваском встреча с двумя гостями за чашечкой кофе: Игорь Чиннов, преподаватель русской литературы (в Париже с 1947 по 1953, теперь преподает в Канзасе), и С., польский поэт, приехавший из Лондона. Чиннов – о бунинских «Воспоминаниях»: чрезвычайно несправедливые, сводил счеты; я привел другой пример несправедливой критики: Набоков о Толстом. Несколько лет тому назад, в Корнеле, Вера и Владимир Набоковы обратили мое внимание на то, что в «Войне и мире» нет упоминаний о литературе; «возможно ли, чтобы Пьер не читал Пушкина?» Но «Война и мир» завершается 1812 годом, тогда как Пушкин привлек к себе внимание публики не раньше 1818 года! Другой пример касается «Анны Карениной», набоковское замечание о Вронском, играющем в теннис сразу после возвращения со скачек (или с охоты): прямо в шпорах в теннис играть! Должен ли был Толстой писать о том, как Вронский приводил себя в порядок в ванной и, может быть, при этом снимал шпоры? «Как бы то ни было, – сказал я, – для Набокова русская литература состоит только из пяти или шести великих писателей (один из них, естественно, сам Набоков)». Да и в мировой литературе (мог бы я добавить) для Набокова наберется 20, самое большое 25 приемлемых имен: надеюсь, мое предположение не чрезмерно оптимистично.
Можно задаться вопросом. Читая дневник и письма Толстого, так же как и письма Флобера, поражаешься тому, какие муки доставляло им писательство. Сопряжен ли с муками творческий процесс Набокова? Только ли бабочка – единственный конечный результат болезненного роста (Набоков – энтомолог, и все его посвящения обычно снабжены изображением бабочки)? И еще я заметил, что в клоунах (а в набоковском стиле много клоунады) обычно таится глубокая печаль. В его случае это не очевидно, но все-таки может быть, глубоко, на самом дне!
То ли потому что я коротко знал Набокова, то ли из-за моего интереса к его творчеству, он привлекает меня и как человек, и как писатель, хотя его произведения, несмотря на всю их виртуозность и даже красоту, оставляют меня холодным. <…>
Из дневника Александра Гладкова, 29 декабря 1968
<…> Читал целый день роман Сирина (Набокова) «Дар». Я читал его раньше, но по тексту «Современных записок», т.е. без главы о Чернышевском, да и не так внимательно, как сейчас. Роман великолепен. По-моему, это лучший роман этого автора. Он прекрасен и по замыслу, и по прихотливой и небанальной сюжетной структуре, и по словесному мастерству. Но главная его удача – герой его убедителен как талант, как человек с поэтическим даром. Подобного примера я не знаю во всей мировой литературе: обычно (кроме «Мартина Идена», м.б.) «писатели» – герои романов – условно-ходульные фигуры. <…>
Джеймс Дики – Фрэнку Кермоуду, 20 марта 1969
<…> И еще я очень благодарен Вам за то, что Вы сказали о Набокове. Редко читал я писателя, который казался бы мне более занудным и отталкивающим, чем он. Он олицетворяет тот тип писателя, который я больше всего ненавижу, – с неизменной самодовольной ухмылкой интеллектуала, выражающей чувство, что всё и особенно все в известной мере достойны презрения. С этой высоты интеллектуального превосходства и снобизма, по-моему, не слишком разумно смотреть на род людской. Сам я тугодум, и Набоков, несомненно, счел бы меня достойным презрения больше, чем всех прочих смертных, за исключением разве что молодых американских писателей, выстукивающих на машинке, как он выразился, «тяжеловесные автобиографические романы». <…>
Из дневника Альфреда Кейзина, 26 марта 1969
Набоков. В высшей степени необычный человек, необычный даже для его положения прирожденного аристократа. Настолько необычный, что должен отгораживаться от других писателей; необычный в том, что его ощущение реальности так сложно и запутанно, что он научился искусству отделять себя от «сна разума», не быть при этом связующим звеном между первым и вторым, но в то же время представлять их как другую версию реальности, как фокус из его набора фокусника… Необычный в своей мечте о любви, в способности научной номинации (Линней)… Бешеная талантливость русского аристократа, интеллектуала-петербуржца, бросающего вызов западному миру.
Единство времени для художника-наблюдателя. Время – огромный круг, чья окружность – везде.
Владимир невинен. Чист и добр. Внешняя оболочка Набокова, эгоизм, исчезает, и ты понимаешь, что имеешь дело с необычайно одаренным ребенком. Болезненно замкнутым. В его воспоминаниях есть возвышенное благочестие – абсолютно добропорядочного человека. (Испытания русского барина, никому не желающего зла.) По своей природе Владимир в высшей степени миролюбив. Мир литературы – мир его воображения.
В[ладимир] – мастер слова; он строит предложения таким образом, чтобы увидеть, куда они его заведут. Любит экспериментировать с ощущениями, создавать и разрушать законы восприятия. Движим необходимостью творить реальность.
Главная его особенность – боязнь молчания и неумения поддержать разговор. Навязчивая идея бессмертия.
Слова чрезвычайно важны для В. Они обладают волшебной силой называния. Особая важность научной, описательной терминологии для русского интеллектуала. Россия и глубоко личное искусство игры. Острое, типично русское чувство соперничества. Продумывание всего и вся из своего безмолвия, изгнания и искусства.
Альфред Кейзин
Глеб Струве – Владимиру Маркову, 29 апреля 1969
<…> Но мне вообще почти никогда не нравятся переводы стихов – особенно тех, которые я знаю и люблю. Переводы стихов стихом же почти никогда не удаются, почти всегда это не только не то, но и далеко не то. До этого пункта я иду с Набоковым (теперешним), но это не значит, что я одобряю то, как он перевел «Онегина» (а вот его перевод «Моцарта и Сальери», совместно с его теперешним врагом, Эдмондом Вильсоном, был хорош, как и некоторые другие, сделанные тогда же). <…>
Эдмунд Уилсон – Роману Гринбергу, 9 мая 1969
<…> Видали Володю Набокова на обложке «Ньюсуик»? Он напоминает статиста, нанятого, чтобы позировать в роли Володи – Владимира Набокова <…>.
(Пер. О. Кириченко)
Глеб Струве – Владимиру Маркову, 22 мая 1969
<…> О набоковской «Аде» высказаться окончательно не могу. Это – книга, которую надо, чтобы до конца разобраться в ней, прочесть больше одного раза. Разобраться – во всех выкрутасах. Стоит ли разбираться, другое дело. Гениально? Нет, не сказал бы, хотя в романе есть очень «глубокий» трактат о природе времени – якобы новая, гениальная теория, опрокидывающая и Бергсона, и Эйнштейна, и всех их предшественников. Но это тоже – «выкрутасы». Чисто словесные выкрутасы, которых больше, чем когда-либо, должны были бы Вам понравиться. Я пришел к заключению, что книга сумасшедшая, а после того прочел в «Time», что Набоков сам определил себя как «the most lucid mad mind». Это верно – у него сочетание «lucidity» и «madness»65. (Между прочим, «Time» не называет книгу гениальной и не считает ее лучшим набоковским произведением. Думаю, что этот отзыв написал Appel и что он предпочитает «Лолиту». А мне «Ада» нравится больше: она и поэтичнее и фантастичнее. Читать ее трудно, но не так скучно, как вторую часть «Лолиты». «Непристойности» в ней, пожалуй, больше, но она другого рода (подробности, намеки; я не говорю о самой теме кровосмесительной любви – это скорее из области набоковской «игры»). <…>