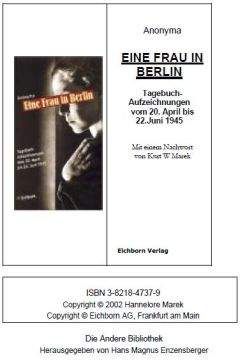Теперь паршивая усердно учит русский язык. Она купила словарь и делает себе выписки из него. Теперь она хочет узнать у меня как правильно произносить слова. У нее плотная экзема, после мази она выглядит как кусок сгнившей цветной капусты.
Теперь мы рассматриваем покинутые квартиры в качестве добычи, берем себе то, в чем мы нуждаемся, занимаются мелкой кражей продуктов. Таким образом, нашла в квартире рядом (которую они использовали в кухне как уборную) охапку брикетов, молоток и 2 банки с законсервированными вишнями. Мы живем хорошо и хорошо кормим также трутня Паули. Он аккуратно получил выпечку и шпика на лечение его болей.
Сразу, к вечеру, Анатоль вломился в нашу комнату. Неожиданно, почти уже забытый. У меня страх, и сердце в горле. Но Анатоль смеется, обнимает меня, очевидно, ничего не зная о майоре, Кажется, правильно, что он был откомандирован к штабу, так как он снабжает нас первоклассными сообщениями. Он сообщает о разрушенном городском центре Берлина, о советском знамени, которое порхает на руине рейхстага, а также на Бранденбургских воротах. Он был повсюду. Про Адольфа он ничего не может сказать, подтверждает самоубийство Геббельса с женщиной и всеми детьми. Он берется за граммофон, и под его кулаками крышка распадается немедленно на 5 кусков. И очень озадачено стоит Анатоль с салатом из досок.
Запутанные картины, иллюстрированные лоскуты воспоминаний, все смешивается в моем мозгу, ничего нельзя разделить. Снова вечером с большим количеством водки, снова ночь. Я прислушиваюсь боязливо наружу, вздрагивая при каждом звуке и каждом шаге. Я боялась, майор мог бы вклиниться; но он не пришел. Вероятно, мрачно-белокурый лейтенант, который знает также Анатоля, помешал его возвращению. Анатоль слышал кое-какие слухи о майоре, хотел знать, была ли я с ним... Я махнула рукой, утверждая, что мы только политически беседовали, чем он и довольствовался. Со своей стороны он заверил меня, что он не тронул еще ни одну девушку кроме меня в Берлине. Он выложил почту, которую он получил с родины. 14 писем, из этого 13 женских. Говорил, стыдливо улыбаясь, однако как само собой разумеющееся: «Да все меня любят».
Так как Анатоль был так неосторожен, что рассказал мне, что он должен был уехать уже в 3 часа ночи назад в новую квартиру в центре города, и что он больше не возвратится, я попыталась лишать его возможно большого времени в кровати. Я перебирала почту, спрашивал все что можно, позволял ему рассказывать, разъяснять мне карту Берлина, фронтовые удары. Я склоняла также их к питью водки, просила спеть, что они охотно делали, до тех пор, пока Анатоль не отделался от них. В кровати я произносила речи и говорила ему, после того, как он получил уже что хотел, что я устала, что у меня болит голова, и я нуждаюсь в спокойствии. Я читала ему моральные лекции и внушала ему, что не такой как остальные «хулиганы», а предупредительный, отточенный, деликатный мужчина. Я не заснула ни на минуту. Все-таки, наконец, наступило 3 часа, и Анатоль должен был уходить. Приветливое прощание, вздох облегчения, расслабление в членах. Он подержал меня еще некоторое время, и у меня было глупое чувство, что все мои действия выслежены разведчиками, и что в конце майору все доложат.
Больше никто не появился до сих пор. Снаружи кран поет. Теперь я хочу спать.
Ретроспективный взгляд на пятницу, 4 мая 1945 года.
Около 11 часов утра появился майор, он уже услышал, что Анатоль снова тут, и хотел узнать, была ли я с ним... Я ответила, что нет, он праздновал только здесь с его людьми и пил, был вынужден вернуться рано снова в центр. Он проглотил это. Мне на душе было отвратительно. Однако в конце они тут командуют. Что мне еще делать? Я - только добыча, и должна предоставить охотникам, то, что они хотят делать с добычей и решать, кому она достанется. Все же, я очень надеюсь, что Анатоль больше не вернется.
На этот раз майор принес всяческие сладости. Мы ели их к десерту, пока майор снова предлагал нам свои услуги. Он не знал, смеяться или сердиться, когда я рассказала ему об ассортименте чулок его узбека. Решился, наконец, на смех. Он обещал, к вечеру повторно зайти. Теперь я уже не знаю, смогу ли я управлять им, он должен быть у меня в 8, никогда не могут забыть, что они - господа.
К неприятности вдовы, едим господин Паули и я как молотильщики из амбаров. Мы намазываем себе масло толщиной в палец, транжирим сахар, хотим жирно-поджаренный картофель. Однако вдова считает у нас этот картофель во рту. Она совсем не неправа. Наш маленький запас исчезает. Пожалуй, корзинка стоит еще с изобилием картофеля в домашнем подвале; но нам не забрать. Домашние жители забаррикадировали в тихие часы утром между 5 и 7 доступ к домашнему подвалу: горой камней и обломков, баррикадой из стульев, матрасов, шкафов и рельс. Все с проволокой и веревками. Распутывание этого могло бы продолжаться часами. Ни у какого грабителя нет на это терпения. Все думают - разберут "потом" - причем, естественно, никто не знает, когда будет это "потом".
Сумасшедший день! О второй половине дня Анатоль появился внезапно, все же, снова, на этот раз на заднем сиденье машины. Он показывал мне внизу ждущую машину с водителем. Итак, он может оставаться только ненадолго в виде утешения. И на этот раз, как он утверждает, это было действительно последнее посещение - он был со штабом из Берлина. Куда? Он не говорит это. В немецкий город? Он пожимает плечами и ухмыляется. Мне это безразлично, я только охотно узнала бы, уходит ли он действительно достаточно далеко. Вдова приветствовала его любезно, но, тем не менее, умерено. Она видит вещи в кухонном шкафу и предпочитает майора, который оставляет совсем другое выпадение осадков на бортах шкафа.
Я лежу рядом с Анатолем на краю кровати и позволяю рассказывать ему о "его" мотоцикле, которым он очень гордится, когда внезапно открывается дверь, к которой пододвинуто обыкновенное кресло. Обеспокоено Анатоль смотрит вверх. Это вдова, очень красная лицом, с запутанными волосами. За нею русский настаивает, зовет ее к себе, я знаю его, вспоминаю: Это красивый поляк со Львова, с выстрелом в голову и с особенным талантом к припадкам бешенства. Кажется, что он на удачной дороге к получению очередного припадка. Он кричит вовсю, причем он обращается как ко мне, так и к Анатолю: он - молодой человек, у него не было некоторое время женщины, и супруг вдовы (кем считает он господина Паули, который имеет свой послеобеденный сон) ничего не заметит и не узнает - все это неподражаемо! И он выпучивает глаза, сжимает кулаки, встряхивает волосами – уверенный в своих законных правах на вдову, польская деревенская глыба, которой он остался, и в разговоре и в нраве. Он говорит, перемешивая все с польскими слова от большого волнения, в то время как вдова утирает себе текущие слезы.