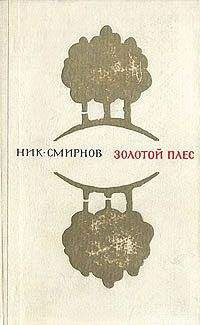Левитан не ошибся: гон, так хорошо и просторно откликавшийся в бору, стал наплывать, наваливаться, приближая ту счастливейшую минуту, когда слышишь только одно - гул своего сердца, а видишь жадные и пронзительные концы ружейных стволов.
Как быстро, бесшумными прыжками, несся заяц, уже подбелевший (чалый, по выражению охотников), и как отчаянно заколесил он после выстрела по отлогому пригорку!
- Можно поздравить? - крикнул Альбицкий.
- Можете! - весело отозвался Исаак Ильич, подбегая к зайцу.
Он с наслаждением поднял его за задние лапы, приятные, как замша, и по-охотничьи крикнул:
- Дошел, дошел!
Иван Федорович и Гавриил Николаевич ответили с разных сторон раскатами рога. Слабо донесся откуда-то из овражка голос Софьи Петровны.
Иван Николаевич крепко пожал руку художнику:
- От души радуюсь, Исаак Ильич. - Он потрогал зайца и без зависти, но с восхищением сказал: - Какой красивый беляк!
Охотники, обходя бор, стали спускаться к Волге, пошли овражками, теми прелестными лесками, где рядом с подсохшим, оливковым дубняком стояли редкие сосенки, похожие на развернутые зонты, а под ногами непрерывно слышался тугой скрип, крепкий и вкусный хруст; взрывались и лопались сизые, маслянистые желуди.
Исаак Ильич шел неторопливо: всему было открыто сейчас его сердце, его зрение и слух. Он прошел редкой чащей до дна высветленной уже низким солнцем, перевалил через овраг, глубоко, до колен, погружаясь в намёты отсыревшей снизу листвы, потом выбрался в долину, по которой, среди елок и берез, тянулась целая аллейка жимолости. Какое это милое деревцо, особенно осенью, когда, Г разубранное листопадом, оно так напоминает о простонародных праздничных нарядах - о колечках и сережках, о скромных ожерельях и вышивках на сарафанах!
Художник сорвал несколько высохших ветвей и, опустясь на удобный, развилистый пень, стал смотреть, слушать...
Протяжно, к вечеру все печальнее, разливались рога, что-то несмолкаемо шуршало в поникших травах, беси; но вились вокруг синички. В долине лежало озерко, над ним зябла молодая березка с обнаженной маковкой. С нее изредка спадали листья, но так мягко, что на озерке не оставалось даже ряби - мелькала лишь мгновенная карандашная тень.
За долиной тянулись те же лески, те же овражки и тропы.
В лесу, особенно по низам, холодело, и осенний запах, днем сухой и влажный, становился густым и острым, отдаленно напоминая запах засахаренных орехов. Далеко был виден, на огромной голой осине, седой ястреб, далеко слышался пробег собаки по хрустящей листве.
Возбуждение охотничьего дня переходило в глубокое и радостное спокойствие. Усталости не чувствовалось - чувствовался лишь холодок на щеках, нетомящая тяжесть в плече, оттягиваемом ремнем, на котором висел заяц, - и так хорошо пахло порохом из ружейных стволов, шагреневой кожей патронташа, прилипшими к пиджаку вялыми березовыми листьями. И, как всегда на охоте, особенно милым казался вечер, чай, наплыв молодого, бестревожного сна...
На поляне на опрокинутой березе сидела, с ружьем на коленях, Софья Петровна. Она тоже была счастлива и довольна: глаза ее смотрели весело и задорно, а в узорчатом платочке, обвивавшем шею, было что-то совсем юное, девичье, институтское.
- Как все славно сегодня, Соня, - тихо, проникновенно сказал Исаак Ильич.
- Да, да, - ответила она и, взяв его за руки, посадила рядом с собой.
Из-за кустов вышел Иван Федорович, тоже присел рядом с ними, сложив на траву зайцев. По тропе шли, о чем-то беседовали Иван Николаевич и Альбицкий. Только молодой Вьюгин, неутомимый даже под тяжестью трех зайцев, все ходил и ходил по овражкам и зарослям, все трубил и порскал - уже хриплым, срывающимся голосом.
Фингал где-то поблизости подал голос. Дианка восторженно подхватила.
Гон на вечерней осенней заре...
Охотники вскочили, оглянулись друг на друга.
- По красному, - отчаянно прошептал Альбицкий. Фомичев вслушался в гон.
- Пожалуй, верно, кумушка, - сказал он, блеснув глазами.
- Что ж, давайте расставляться, господа, - оживился Иван Николаевич, - лиса или понорится, или дойдет на первом кругу.
Быстро, стараясь не шуметь, разбежались в разные стороны.
Исаак Ильич встал на вырубке, далеко озаренной предзакатным солнцем.
Гон совсем не походил на то, что он слышал до сих пор: в нем звенела-переливалась и какая-то особая сила, и настойчивость, и какая-то мучительная мольба, и гремящая торжественность. Художнику вспомнились гулкие, грозные и светлые звуки «Волшебного стрелка» Вебера... Уже одно мысленное видение лисицы наполняло Левитана чувством поэтической охотничьей старины. Лисица была взята Иваном Николаевичем. Это тоже было очень красиво: низкое солнце в просветах осенних берез, кучка громко и весело разговаривающих охотников, высоко закинутые морды жарко дышавших собак и между ними, на палой листве, дикий, огневеющий зверь с откинутым, высеребренным хвостом. Красиво было - все той же дикой охотничьей красотой - и возвращение: холодеющая дорога, студеная заря за лесом, глухая и чуткая тишина, налитая, как и утром, стеклянной звучностью.
Крепко зашумела крыльями какая-то шальная тетерка, сорвавшаяся у самой дороги, метнувшаяся на зарю со своим тревожным и волнующим «ко-ко-ко».
Охотники, повернувшись, схватились за ружья.
Гавриил Николаевич, выпрыгнув вперед, выстрелил - птица, не смыкая крыльев, стукнулась о землю - и, оглянувшись, хрипло и весело сказал:
- Вот как у нас!
Он сбегал за тетеркой и, держа ее в обеих руках, подал Софье Петровне:
- На память о сегодняшней охоте.
- Спасибо, - ответила она, растягивая сетку. Собаки в это же время увязались за зайцем, который увел их в поле, в зеленя, в наплывающий ночной мрак.
- Придется ловить, - озабоченно сказал Иван Федорович.
- Приду-ут, никуда не денутся, - спокойно отмахнулся Гавриил Николаевич. - Дианке не привыкать переплывать Волгу, а твой черт - в собственных владениях.
- Нет, не годится, время осеннее, серые гости стали, говорят, погуливать.
Иван Федорович раскатисто выстрелил из обоих стволов, стал, захлебываясь, накликать - «татакать», а устав, сказал Гавриилу Николаевичу:
- Потрубим, Ганя!
Они подняли рога - и по лесу полилась старинная охотничья песня, ее томительная мука и грусть, ее звериная радость. Иван Федорович трубил отрывисто, все усиливая медную игру звуков, Гавриил Николаевич - протяжно, нараспев, с длительными, зовущими заливами. Рога хорошо откликались за Волгой, хорошо сливались с вечерней лесной тишиной, не будя, а, напротив, убаюкивая ее.
Но собак не было, - их перехватили позднее, в поле, на деревенском выгоне.