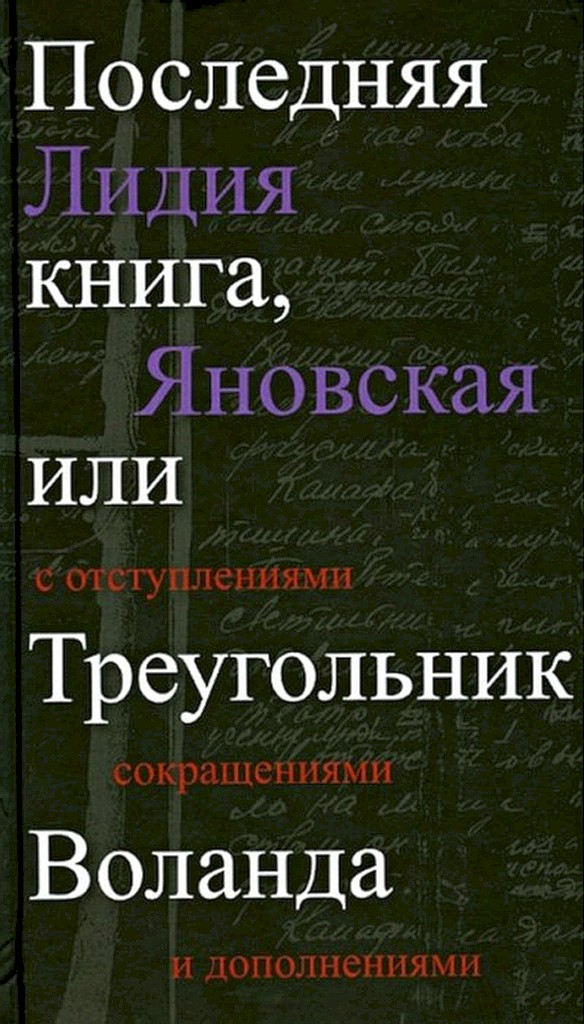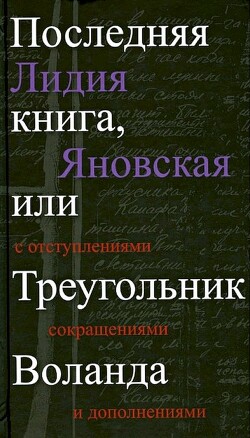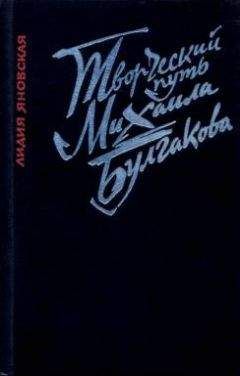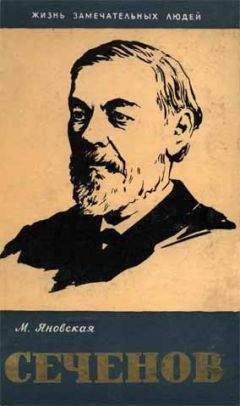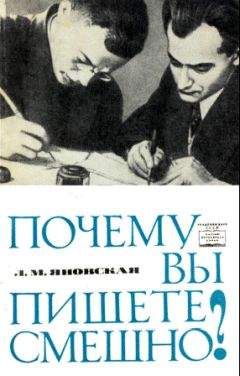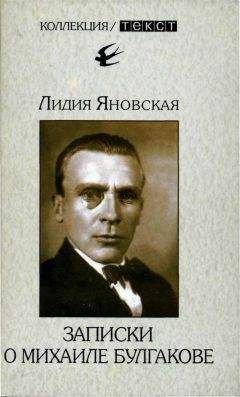еще не вычислив третью, я хваталась за слово «гениален». Гениален, конечно. Но все-таки, может быть, была в какой-то степени написана между июлем 1935-го и июлем 1936-го фантастическая вторая часть? И сохранившаяся глава «Последний полет» ее естественное заключение?
Важный и новый момент третьей редакции — то, что у постели Ивана, ночью, в клинике, появляется уже не Воланд, а мастер. И следующая затем глава о распятии — «На Лысой Горе» — его рассказ.
«— А я, между прочим, — беспокойно озираясь, проговорил Иван, — написал про него стишки обидного содержания, и художник нарисовал его во фраке.
— Чистый вид безумия, — строго сказал гость, — вас следовало раньше посадить сюда.
— Покойник подучил, — шепнул Иван и повесил голову.
— Не всякого покойника слушать надлежит, — заметил гость…»
В третьей редакции впервые герой сам называет себя мастером:
«— Я — мастер, — ответил тот и, вынув из кармана черную шелковую шапочку, надел ее на голову, отчего его нос стал еще острей, а глаза близорукими».
А вот желтого цвета на шапочке все еще нет — свою игру с цветом в романе Булгаков начнет позже. И нет упоминания о том, что «она» своими руками шила эту шапочку. Мастер рассказывает Ивану о себе, но в повествовании еще нет его пронзительного рассказа о любви. Нет даже пробела для такого рассказа, пропуска, пометы, какие оставлял Булгаков для отложенных сюжетов или подробностей.
Не исключено, что и в этой редакции, как в предыдущей, изложение истории любви было передано Маргарите, шло от ее лица и находилось в несохранившейся (может быть, потому и не сохранившейся) 19-й главе…
Фактически уже завершив третью редакцию, Булгаков дописал небольшой кусок под названием «Окончание сна Босого», в котором снова появляется отец Аркадий Элладов. Этот отрывок, не законченный и в дальнейшие редакции не вошедший, так интересен, что, извинившись перед читателем за обилие цитат, все-таки приведу его.
«Босой забылся. Ногами он упирался в зад спящему дантисту, голову повесил на плечо, а затем прислонил ее к плечу рыжего любителя бойцовых гусей. Тот первоначально протестовал, но потом и сам затих и даже всхрапнул. Тут и приснилось Босому, что будто бы все лампионы загорелись еще ярче и даже где-то якобы тренькнул церковный колокол. И тут с необыкновенной ясностью стал грезиться Босому на сцене очень внушительный священник. Показалось, что на священнике прекрасная фиолетовая ряса — муар, наперсный крест на груди, волосы аккуратно смазаны и расчесаны, глаза острые, деловые и немного бегают. Босому приснилось, что спящие зрители зашевелились, зевая, выпрямились, уставились на сцену.
Рыжий со сна хриплым голосом сказал:
— Э, да это Элладов! Он, он. Отец Аркадий. Поп-умница, в преферанс играет первоклассно и лют проповеди говорить. Против него трудно устоять. Он как таран.
Отец Аркадий Элладов тем временем вдохновенно глянул вверх, левой рукой поправил волосы, а правой крест и даже, как показалось Босому, похудев от вдохновения, произнес красивым голосом:
— Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Православные христиане! Сдавайте валюту!
Босому показалось, что он ослышался, он затаил дыхание, ожидая, что какая-то сила явится и тут же на месте разразит умницу попа ко всем чертям. Но никакая сила не явилась, и отец Аркадий повел с исключительным искусством проповедь. Рыжий не соврал, отец Аркадий был мастером своего дела. Первым же долгом он напомнил о том, что Божие Богу, но кесарево, что бы ни было, принадлежит кесарю. Возражать против этого не приходилось. Но тут же, сделав искусную фиоритуру бархатным голосом, Аркадий приравнял существующую власть к кесарю, и даже плохо образованный Босой задрожал во сне, чувствуя неуместность сравнения. Но надо полагать, что блестящему риторику — отцу Аркадию дали возможность говорить, что ему нравится.
Он пользовался этим широко и напомнил очень помрачневшим зрителям о том, что нет власти не от бога. А если так, то нарушающий постановления власти выступает против кого?..
Говорят же русским языком: „Сдайте валюту…“»
(Всякий раз, дойдя до фигуры отца Аркадия Элладова, вспоминаю, как вдохновенно А. И. Солженицын выговаривал покойным Ильфу и Петрову за изображение отца Федора в «Двенадцати стульях»: «Человеку свойственно бить по слабому, сильно гневаться на беззащитного. Сколькие советские писатели с удовольствием (и без всякой даже надобности) лягали русскую церковь, русское священство (хотя бы и в „Двенадцати стульях“) <…>, зная, насколько это безопасно, безответно и укрепляет их шансы перед своим правительством» [18].
Священник Аркадий Элладов, согласитесь, изображен куда жестче, чем простодушный отец Федор. Но вряд ли Александр Исаевич заподозрил бы обожаемого им Булгакова в «лягании» русской церкви с целью укрепить свои «шансы» перед правительством. Были, надо думать, у сатирических фантазий Ильфа и Петрова в конце 20-х годов и у Михаила Булгакова в начале и середине 30-х какие-то другие основания.
В дальнейшем этот персонаж был Булгаковым снят. К концу 30-х годов фигура отца Аркадия Элладова по самым разным причинам перестала быть актуальной.)
Между третьей и четвертой редакциями две тетради, озаглавленные так: «Князь тьмы». Обе относятся к первой половине 1937 года. Это подступ к четвертой редакции романа, предчувствие ее.
Булгаков переписывает первые главы, одну за другою, кажется, не столько работая над ними, сколько готовя себя к решительному броску — сплошному переписыванию романа и связанному с этим взлету импровизиции. Известный прием авторской работы: войти в ритм, «раскатать» воображение.
Он пишет с начала. Все еще неясную, требующую очень серьезной доработки главу 2-ю — «Золотое копье» — пропускает. Удовлетворенно поправляет давно сложившиеся сатирические главы. Вплотную подходит к главе 13-й. Здесь она уже 13-я — «Явление героя» — и так будет называться отныне. Мастер, которого уже в предыдущей редакции звали так, окончательно осознается героем романа и вот-вот готов стать его заглавным героем.
«— Я — мастер, — ответил гость и стал горделив и вынул из кармана засаленную шелковую черную шапочку, надел ее, также надел и очки и показался Ивану и в профиль и в фас, чтобы доказать, что он действительно мастер».
Писатель прорабатывает эту главу тщательно и любовно. Ее образная, ее ритмическая структура очень близки окончательным. И уже намечается вхождение лирической темы, которая с такой силой окрасит эту главу в последующих редакциях:
«Выяснилось, что он написал этот роман, над которым просидел три года в своем уютном подвале на Пречистенке, заваленном книгами, и знала об этом романе только одна женщина. Имени ее гость не назвал, но сказал, что женщина умная, замечательная…»
Здесь на полуфразе обрывается рукопись