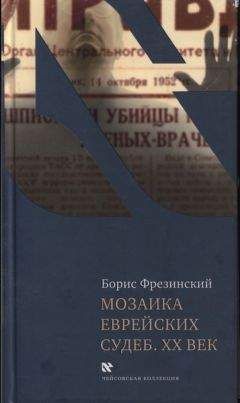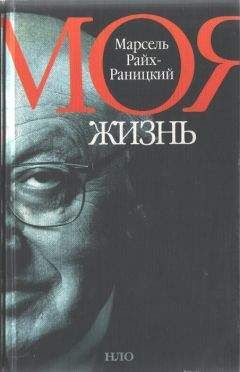Насторожиться было от чего:
Не стало нежности живой,
И слезы навсегда иссякли.
Теперь одно: кричи и вой!
Пылайте словеса из пакли!
Пока не покосится рот,
И кожа на губах не треснет,
И кровь соленая пойдет,
Мешаясь с безобразной песней!..
Первая книга Полонской «Знаменья» открывалась романтическими стихами, посвященными Александру Блоку; их последнюю строфу не раз цитировали:
И мы живем и, Робинзону Крузо
Подобные, за каждый бьемся час,
И верный Пятница — Лирическая Муза,
В изгнании не покидает нас.
Полонская понимала Революцию как явление Природы и принимала ее. Отношение к новой власти было совершенно иным. Впрочем, эта власть за 10–12 лет идеологически круто изменилась, постепенно подчиняя себе все сферы деятельности граждан. Предвидеть это во всем объеме Полонская не могла, но еще в 1921-м со многим прощалась:
Но грустно мне, что мы утратим цену
Друзьям смиренным, преданным,
безгласным:
Березовым поленьям, горсти соли,
Кувшину с молоком и небогатым
Плодам земли, убогой и суровой…
«Когда я перечитываю эти стихи, — вспоминала Полонская свою первую книгу, — я вижу неосвещенный в снежных сугробах Невский и себя в валенках и кепке, бредущей с ночного дежурства в 935 госпитале, что на Рижском, по направлению к Елисеевскому дому на Мойке, тогдашнему „Дому Искусств“, где за барской кухней в „людском“ коридоре, прозванном „обезьянником“, в комнате Миши Слонимского собирались Серапионовы братья»[29].
В 1921-м Полонская пришла к Серапионам. Ее стихи понравились. В них был дух времени, которое переживали все, и были свои темы. Писала она и на библейские, соотнося происходящее в стране с древностью; она умела сказать о том, что ее занимало, обращаясь к классическим образам:
Мы знаем точный вес, мы твердо помним счет;
Мы научаемся, когда нас научают.
Когда вы бьете нас, кровь разве не идет?
И разве мы не мстим, когда нас оскорбляют?
(«Шейлок»)
Многое из этого в неромантические для нее тридцатые годы постепенно ушло из ее поэзии.
У Серапионов поначалу было два поэта: юный Познер и неюная Полонская, потом Познер уехал, и Полонская осталась одна, затем появился Николай Тихонов (их с Полонской тогда многое роднило — они дружили). Поэтов стало двое, но Серапионовой сестрой Полонская осталась единственной. Не живя в Доме Искусств, она хорошо его знала — по Серапионовым сборищам; когда появился роман Ольги Форш «Сумасшедший корабль», посвященный Дому Искусств в 1920–1922 годах, Полонской было интересно разгадывать прообразы его персонажей (на полях книги она карандашом их записывала; на книге Форш такой автограф: «Милой женщине хорошему поэту Лизавете Полонской от Ольги Форш на память. 1931. Редкое и достойное сов-ме-ще-ние!» Как член братства, Полонская участвовала во всех собраниях Серапионов, но посещала еще и легендарную Вольфилу[30] (Серапионов там считали членами-соревнователями), даже устроила там первое в городе обсуждение романа Эренбурга «Хулио Хуренито». В 1923 году Серапионы по средам собирались у Полонской на Загородном… К каждой серапионовской годовщине Елизавета Григорьевна неизменно писала шутливую оду.
В 1923 году вышла вторая книга ее стихов «Под каменным дождем»[31]:
Калеки — ползаем, безрукие — хватаем.
Слепые — слушаем. Убитые — ведем.
Колеблется земля, и дом пылает —
Еще глоток воды! Под каменным дождем…
Как и для многих, годы нэпа были психологически трудными для Полонской; подобно Блоку, она не могла принять, как оказалось недолговременную, реставрацию старого мира. Ее поэму «В петле» А. К. Воронский пытался напечатать в «Красной нови» хотя бы со своим предисловием, но ему не дали; Николай Тихонов тогда сообщал Льву Лунцу о поэме Полонской: «Не берут в печать, потому что она левее левого».
Что касается еврейской темы, то она неизменно и заостренно присутствует в тогдашних стихах Полонской. Вот Елизавета Григорьевна любуется своим малышом; кто скажет, что эти стихи написаны в грозном Петрограде 1919 года:
Таких больших иссиня-черных глаз,
Таких ресниц — стрельчатых и тяжелых,
Не может появиться среди вас,
В холодных и убогих ваших селах.
Нет, только там, где блеск, и зной, и синь,
Под жгучим небом Палестины
В дыханьи четырех больших пустынь,
Бог Саваоф мог дать такого сына.
Между тем именно в первые послеоктябрьские годы Полонская осознает свое еврейство неотрывным от любви к России и в стихах 1922 года, обращаясь к стране, без обиняков формулирует остроту очевидной для нее коллизии:
Разве я не взяла добровольно
Слов твоих тяготеющий груз?
Как бы ни было трудно и больно,
Только с жизнью от них отрекусь!
Что ж, убей, но враждебное тело,
Средь твоей закопают земли,
Чтоб зеленой травою — допела
Я неспетые песни мои.
Еврейская тема, лишившись в 1930-е годы внутреннего напряжения, продержалась в стихах Полонской до 1940-го («Правдивая история доктора Фейгина»), пока, с началом политики неприкрытого госантисемитизма, не стала запретной. Грозное антихристианство Полонской 1920-х, о котором Шагинян написала, что оно «страшнее и убийственней всяких ярмарочных бахвальств „комсомольского Рождества“», способно было бы шокировать бывших атеистов от КПСС, декларирующих ныне новую веру (капитал, освященный православием), но им, слава Богу, не придет в голову заглянуть в эти стихи.
С 1922 года Полонская работала разъездным корреспондентом «Петроградской правды»; ее очерки повествовали о Севере, Урале, Донбассе; писала она и для журналов и радио. Это упоминает Шварц в шуточных «Стихах о Серапионовых братьях» в «Чукоккале»:
Любит радио,
Пишет в «Ленинграде» о
Разных предметах
Полонская Елизавета.
Корней Чуковский уговорил ее заняться детской поэзией, и Полонская написала несколько милых книжек для малышей; они многократно переиздавались, и Елизавета Григорьевна сообщала Лунцу в 1924 году: «Ребята наши серапионовские все вышли в большой свет, за исключением Ильи <Груздева> и Веньки <Каверина>. А я стала знаменитой детской писательницей — образец Вам посылаю»[32]. Однако вскоре детскую поэзию она оставила.