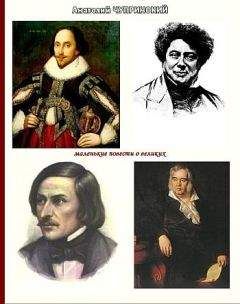Тут и цыганы, торгующие лошадей с обязательным медведем на цепи. И нищие в дырявых рубищах. И красавицы девчата с пестрыми лентами в волосах. Крики, смех, гомон. Мычание, блеяние, хрюканье, кудахтанье… Горы дынь и арбузов. Горы горшков и самых разных шкатулок из бересты и вереска.
В беснующемся ярмарочном водовороте Николенька пропадал с рассвета и до самых сумерек. Беспокойная маменька каждый день посылала няньку на поиски малыша.
Обычно Николеньку видели сразу в нескольких местах: у возов с пшеницей, на церковной паперти, у реки, где заключались главные торговые сделки. Практичная нянька попусту не бегала туда-сюда. Вставала посреди площади и прислушивалась. Услышав перезвоны лиры и низкие вздохи бандуры, уверенно шла на звуки музыки.
До головокружения слушал маленький Николенька пение бродячих музыкантов. Вставали перед его глазами картины старины глубокой, когда на земле рождались сплошь богатыри и сражались с несметными полчищами врагов, не жалея собственной жизни. Мечтал он, само собой, стать «доблестным лыцарем». И так же биться за свободу. Или планировал выкрасть прекрасную царевну из темного замка. И ускакать с нею на лихом коне куда подальше. Как выкрал в свое время, его дедушка Афанасий молодую бабусю Татьяну и тайно с ней обвенчался, против воли родителей.
Ах, сколько фантастических сюжетов роилось тогда в юной голове, если б записать! Но записывать маленький Николенька еще не умел. Желание, даже жажда, записывать собственные мысли, чувства и фантазии родится позже.
Жажда вырастет из подражания отцу Василию Афанасьевичу. Тот умудрялся и на написание комедий для своего домашнего театра время находить. Титанический был человек.
Как-то, после очередного домашнего представления папенькиной пьесы, Николенька оглядел соседей и домочадцев, еще утиравших слезы от смеха, и неожиданно мрачно заявил:
— Вырасту, сочиню самую смешную комедию на свете!
И почему-то присутствующие перестали смеяться и, внимательно посмотрев на мальчика, задумались.
Сколько ни уговаривал Николенька приятелей вместе сбегать ночью к пруду, посмотреть русалок, никто не соглашался.
— Умру, не пойду! — шептал, заикаясь и тараща глаза, даже лучший друг Саша Данилевский.
В тот день все складывалось наилучшим образом. Папенька с утра уехал по делам в Полтаву, Маменька лежала с зубной болью и не выходила из спальни. Нянька отпущена в деревню к сестре. А дядька Семен валялся пьяный в своей сторожке за баней. Псы, Жучка и Верный, не в счет. Лучшие друзья, не выдадут.
Весь день Николенька бесцельно шатался по дому и саду, с волнением поглядывая в сторону пруда.
Как только на небе зажглись огромные, с гусиное яйцо, звезды, Николенька выбрался через окошко своей спальни в сад.
Темень стояла беспросветная. Но глаза постепенно привыкли и стали различать очертания дома и окрестностей.
Во всей усадьбе стояла такая гулкая тишина, что даже в ушах звенело. Не успел Николенька сделать и шага по тропинке, как тишину нарушило тревожное ржание лошадей в конюшне. И сразу весь сад, весь мир, заполонили страшные звуки. Вокруг что-то потрескивало, шуршало, лопалось…
Волной по саду прошел порыв ветра, совсем рядом страшно захохотал филин. В ответ ему гулко ухнула сова. А со стороны пруда над тихой водой возник едва слышимый веселый девичий смех…
В оцепенении стоял маленький Николенька, судорожно решая, какую молитву читать, «Верую» или «Отче наш», чтоб отогнать от себя полуночную нечисть. Но неожиданно из-за облаков вышла яркая луна, и стало совсем светло.
Длинные-длинные тени от деревьев пересекали узкую дорожку к пруду. И совершенно оглушительно верещали цикады.
Переборов страх, Николенька осторожно двинулся вперед.
Ветки, как чьи-то цепкие, холодные руки цепляли за одежду. Тропинка то пропадала, а на ее месте возникал невесть откуда взявшийся трухлявый пень, то возникала вновь. Николенька шел.
Далее случилось невозможное, невероятное…
Грянул гром, и ослепительно вспыхнула молния. Луна опять спряталась за тучу. И стало совсем темно. Тропинка вовсе исчезла.
Николенька широко раскрыл рот и набрал в легкие,/ну, очень!/, много воздуха, чтоб закричать от страха во все горло, но вместо крика он неожиданно… слегка приподнялся над землей! И полетел!!!
Какая-то неведомая сила осторожно оторвала его от земли. И медленно закружила над садом, над прудом.
Плескались в пруду длинноволосые красавицы русалки. И тихим смехом манили Николеньку к себе:
— Мальчик! Мальчик!
— Иди к нам! С нами весело!
Но он вдохнул еще глубже. И поднялся выше. Еще выше. Над прудом, над деревьями и кустами. Над всей сонной Васильевкой!
И страшно. И радостно. И тревожно на душе.
— Маменька! Я летал!
— Летаешь, значит, растешь, — ворчала нянька, меняя холодные компрессы на его разгоряченном лбу.
— Я по-настоящему летал, маменька!
Целых два дня лежал в постели Николенька с жаром и бредом. Потный, слабенький, но беспрерывно улыбающийся.
И только настоянная на муравьях наливка бабушки Татьяны подняла его на ноги.
У многих великих писателей существует дурацкая манера. Чуть-что, швырять рукопись в огонь, в камин, в печку, в костер. Хлебом их не корми, дай спалить собственную рукопись. А предки потом переживай, что он там предал огню? Может, самое гениальное произведение. Всех времен и народов.
От кого пошла сия вредоносная мода, критики до сих пор не пришли к единому мнению. Ходят слухи, еще великий Сократ спалил все свои рукописи. Погреться ему, видите ли, захотелось средь холодной ночи. Потому и дошли до нас его изречения только в устном пересказе.
Николай Васильевич Гоголь, судя по всему, тоже в далеком детстве подцепил эту «подлую бациллу».
Маленьким Николенькой овладела одна, но пламенная страсть. Пламенная в буквальном смысле этого слова. Уж очень полюбил он всякие «ненужные» бумажки поджигать.
Едва выучившись писать, Николенька тут же ударился в поэзию. Множество стихов, и даже две поэмы, нашли свой последний приют в костре на окраине сада у сторожки Семена. Жаль! По слухам сам Капнист, чье имение находилось по соседству, прочитав стихи Николеньки, изрек; «Из него будет большой талант!».
«… гимназист он кто; все больше несурьезность в голове!»
Нежинскую гимназию высших наук князя Безбородки ученики с гордостью именовали «Лицеем», себя лицеистами. И хоть существовали в ней «чужеземные дни» когда полагалось обращаться к наставникам либо на французском, либо на немецком, на обед те же пироги с зайчатиной, что и в других гимназиях.