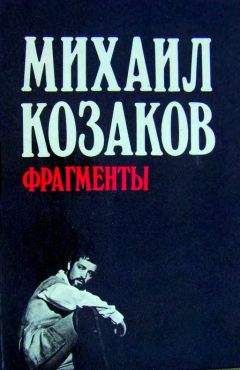Предложение Олега Николаевича, единогласно поддержанное труппой, начальство восприняло как потрясение основ социалистической системы. Прозвучала фраза: «Венгрию развели!», и экономический проект был, разумеется, тут же похоронен. Но его еще долго помнили Ефремову, когда хотели постращать.
Надо сказать, что на плечи Олега всегда ложилась вся тяжесть взаимоотношений с вышестоящими инстанциями. Какой-то большой чиновник из Министерства культуры ответил коротко и ясно, когда Ефремов обратился к нему по одному из жизненно важных вопросов: «Что ты мне заладил: «коллектив, коллектив»… Кто там у тебя в коллективе? Несерьезно все это! Для меня есть один человек! Запомни: Олег Попов! Ой, извини! Олег Ефремов!..» Что говорить, он был буфером между бескомпромиссным молодым коллективом и руководством министерства, которое не воспринимало всерьез «пацанов» и «девчат» из «Современника». Начальник отдела кадров пенял Олегу: «Вообще одних евреев набрал: Кваша, Евстигнеев. Одна русская, да и та баба — Волчок».
Нелегко приходилось Ефремову, но на то он и был «фюлер», чтобы тащить этот воз…
Спектакль «Вечно живые» заканчивался серией вопросов: «Зачем я живу? Зачем живем мы все? Как мы живем? Как мы будем жить?»
Эти вопросы — вроде бы вполне абстрактные — звучали в 1956 году более чем определенно. Если наше поколение спасено от фашизма ценой немыслимых жертв, если почти в каждой семье кто-то так или иначе погиб, то теперь, когда наступило другое время, когда на XX съезде сказано про «ленинские нормы» и «ленинские принципы», как надо жить вообще, и в искусстве в частности?
Поэтому, наверное, в следующей работе «Современника» «В поисках радости» — десятиклассник Олег рубил отцовской саблей, сохранившейся в доме чуть ли не со времени гражданской войны, современные торшеры и серванты, приобретенные женой старшего брата мещанкой Леночкой. Одним символом он пытался уничтожить другой символ. Бунт против мещанства заканчивался стихами, которые герой спектакля Олег — он же Олег Табаков — читал под занавес:
Нет мне туда дороги,
Пути в эти заросли нет!
Такой декларативный финал был вполне в духе «Современника». «Как мы будем жить?» Нет, не так, как хотят современные мещане! Мы не будем копить и обставляться, мы будем бунтовать! То есть по-своему, по-нашему, по-тогдашнему понятая десталинизация и здесь была подспудным смыслом спектакля, да и пьесы, — Виктор Сергеевич Розов не зря стал благодатнейшим материалом для поисков Эфроса и Ефремова.
Напомню: «Да, но кто Чехов?» «Розов», — ответил мне когда-то один из основателей театра Игорь Кваша, выражая, судя по всему, общее мнение основателей.
Уже в конце 70-х это утверждение стало казаться смехотворным, но тогда Розов действительно был центром, вокруг которого кипели страсти, за право постановок его пьес сражались театры и режиссеры, о спектаклях выходило множество статей.
Достаточно привести статистическую выкладку, и станет понятно, что Кваша говорил без тени юмора. Из 35 пьес, поставленных «Современником» с 1956 по 1970 год, в репертуаре театра пять (!) было собственно розовских: «Вечно живые», «В поисках радости», «В день свадьбы», «С вечера до полудня», «Традиционный сбор» и одна его инсценировка «Обыкновенной истории» Гончарова. «Вечно живые» шли в трех версиях, дважды возобновленные. А после 70-го, когда Ефремов ушел во МХАТ, «Современник» поставил еще два розовских опуса.
Итак, почти одна шестая часть репертуара — это Розов. Любимый (подчеркиваю — любимый) драматург театра А. М. Володин, чье пятидесятилетие торжественно и весело, как мы когда-то умели, отмечалось в «Современнике», был представлен все-таки лишь тремя пьесами: «Пять вечеров», «Старшая сестра» и «Назначение». Василий Аксенов — всего одной: «Всегда в продаже». Александр Вампилов будет поставлен молодым Валерием Фокиным только в середине 70-х годов…
Жизнь показала, что все пьесы Розова, кроме разве «Вечно живых», — бабочки-однодневки. Их никогда потом не ставили снова. Но когда они появлялись из-под пера автора, за них брались, я бы сказал, хватались такие режиссеры, как Эфрос, Товстоногов, Ефремов, оспаривая право «первой ночи». Часто его пьесы шли одновременно в разных московских театрах. «Вечно живые» — у ермоловцев и в «Современнике», «В поисках радости» — в режиссуре Ефремова и в ЦДТ, в постановке Эфроса. И тот и другой ставили «В день свадьбы», Олег — у нас, а Эфрос — в возглавляемом им тогда Театре им. Ленинского комсомола. В провинции же пьесы Розова игрались в сотнях театров, что, как я теперь понимаю, совершенно естественно: это было и маняще, щекочуще остро, и в то же время сравнительно безопасно.
Антимещанский писатель. Розов сам стал отчасти советским мещанином, смотрящим на мир сквозь «розовые очки». Собственно, он всегда держался золотой середины и поднимал злободневную проблему, ловко закругляя к концу пьесы торчащие углы, но для тех, кто, подобно андерсеновско-шварцевской принцессе, был чувствителен ко всякого рода шероховатостям под перинами, даже эта горошина внушала одним радость приобщения к «остроте», другим — беспокойство и недовольство. Но проходило время, стихали страсти, пьесы Розова канонизировались, и вот тогда-то к ним больше не возвращался ни один серьезный режиссер.
Тем не менее они, буду справедлив, вполне укладывались в современниковское направление. Пристальное внимание драматурга к отдельному индивидууму, в недавнем прошлом именовавшемуся «винтиком», соответствовало устремлениям Ефремова, постоянно твердившего о воссоздании на сцене «жизни человеческого духа». А когда в пьесе существовал «бунт», да еще с высказанной вслух декларацией, она и вовсе воспринималась «Современником» как откровение.
Интересно, что розовский Олег бунтовал в то же самое время, что и Джимми Портер в пьесе Осборна «Оглянись во гневе», — вот тогда бы «Современнику» и поставить пьесу «разгневанного» молодого англичанина, а не спустя почти десять лет, когда уже давно настала пора оглянуться без гнева, но в серьезных раздумьях о прошлом…
И тут мы сталкиваемся с двумя очень важными вопросами: первое, на что «Современник» был способен сам, и второе, что ему запретили совершить, не дав показать, на что именно он способен.
Пьеса «Оглянись во гневе» была известна «Современнику». Вопрос о ней ставился в 1959 году, когда я там уже работал. Но думаю, что бунт Джимми Портера, парня наших лет, который поднялся на сцену и выплеснул в зал свою ярость, свое презрение, свое отвращение к уготованной ему жизни, к святым опорам, на коих ей надлежит держаться, был «Современнику» тогда не по зубам.