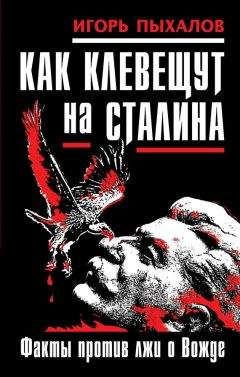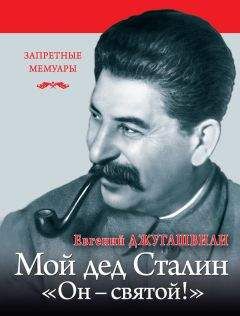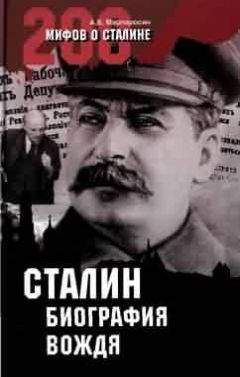Я не была знакома с Василием. Видела его несколько раз на приемах и среди зрителей на концертах, но не разговаривала с ним. Его открытое улыбчивое лицо производило хорошее впечатление, и отзывы о нем были хорошими, как о добром, отзывчивом, совершенно незаносчивом человеке. Вот только выдержки ему действительно не хватало, даже в зрелые годы. Сталин не напрасно волновался. Он ничего не делал напрасно. Несдержанность в конечном итоге сломала жизнь Василию[68].
Добавлю относительно Эйзенштейна. Отношение Сталина к нему служило еще одним доказательством того, что к каждому человеку Сталин относился так, как тот того заслуживал. Он мог не любить кого-то за его человеческие качества, но уважать за профессиональное мастерство (например, как я Эйзенштейна). Если человек не оправдывал доверия, то он переставал существовать для Сталина. Напротив, если человек, заподозренный в чем-то нехорошем, доказывал своими делами обратное, то Сталин доверял ему. Когда Эйзенштейн с Г.В. и оператором Т.[69] ездили за границу изучать технику звукового кино и вообще учиться, то их поездка затянулась надолго, потому что они не только учились, но и работали там. Работа, практика есть необходимая составляющая любой учебы. В какой-то момент в Москве сочли, что их поездка чересчур затянулась. Была получена телеграмма от Сталина, в которой говорилось, что Эйзенштейн потерял расположение своих товарищей в Советском Союзе и что его считают дезертиром, который разорвал отношения со своей страной. Г.В. не раз цитировал телеграмму Сталина слово в слово. Заканчивалась она словами: «Я боюсь, что в СССР об Эйзенштейне скоро забудут». Подчеркну, что речь шла только об Эйзенштейне, а не о его спутниках. Не исключено, что сыграло свою роль и поведение отца Эйзенштейна, к тому времени уже покойного. Отец его[70], действительный статский советник[71], не принял революцию, эмигрировал, умер в Берлине. Когда же Эйзенштейн вернулся домой, доказав тем самым, что не собирался эмигрировать, доверие Сталина к нему восстановилось полностью. Подтверждением тому служат две Сталинские премии первой степени, орден Ленина и другие награды Эйзенштейна. Никто не может сказать, что его преследовали или как-то ущемляли.
Беседуя со мной, Сталин не раз упоминал о том, что о каждом человеке следует судить по его делам. Это и есть материалистический подход, свойственный всем коммунистам.
* * *
Однажды я услышала от Сталина необычную, неожиданную похвалу.
— Отсутствие головокружения от успехов[72] делает честь артистке Орловой, — сказал Сталин. — Молодец!
Головокружение от успехов? Оно мне совершенно не свойственно. Какими бы ни были успехи, зазнаваться не след. Не понимаю некоторых коллег, которые старательно изображают небожителей-олимпийцев. Советскому человеку подобное поведение не к лицу. Пришел к тебе журналист — так лучше удели ему несколько минут. Он же на работе, он хочет написать о тебе для советских людей. Так нет, журналиста отправят прочь, а сами битый час станут рассуждать о том, как им не хватает времени. Если бережно относиться к времени, то его на многое хватит. Но дело не во времени, а в гордыне, зазнайстве, желании продемонстрировать напоказ свою «великую занятость», выделиться, привлечь внимание.
Некрасивое поведение, недостойное советского человека. Характеры людские явственнее проявляются в мелочах. Крупные поступки люди взвешивают, продумывают, а продумыванием мелочей себя не утруждают. Вот и проявляется постепенно истинное лицо. Там штришок, тут мазок, там словечко — и вырисовывается неприглядная картина.
Некоторым достаточно дружеской критики для того, чтобы одуматься. Другие приходят в себя лишь «спустившись на землю». Зачастую этот спуск бывает весьма болезненным.
Голова, на мой взгляд, имеет право кружиться только от любви.
* * *
Услышав от меня выражение Г.В. «От хорошей картины глаза не устают» (иногда вместо «не устают» Г.В. говорит «не должны уставать»), Сталин попросил объяснить смысл. Не стану писать о том, какую картину мы тогда обсуждали (она нам обоим не понравилась), расскажу о смысле, который Г.В. вкладывает в эти слова. Я, к слову будь сказано, полностью с ним согласна.
Смысл таков — хороший режиссер снимает картины таким образом, чтобы зрителю удобно было их смотреть. Удобно и приятно. Г.В. не любит таких сомнительных новшеств, как «скачущая камера», снимающая действие с разных углов, то сбоку, то снизу, а то и сверху. Не по душе ему и чересчур быстрая, беглая смена ракурсов. Некоторые режиссеры чрезмерно увлекаются внешними эффектами, думая, что меняющийся угол обзора поможет им скрыть недостатки своих картин. Режиссер должен иметь что сказать своим зрителям, если в картине нет смысла, если в ней отсутствует идея, то скрыть это не помогут никакие ухищрения.
— Есть ли хорошие учебники по режиссерскому делу? — спросил Сталин.
Я честно ответила, что какие-то труды есть, но вот про учебники я не знаю. На том разговор и закончился. Я так и не поняла, зачем Сталин интересовался учебниками по режиссуре. Допускаю, что Он хотел ознакомиться с ними для того, чтобы лучше понимать кино. Тяга к самым разносторонним знаниям была в характере Сталина. На его столе мне доводилось видеть книги по самым разным темам, от геологических атласов до трудов по античной истории. И все они лежали не просто так, а имели закладки, пометки на полях, то есть было видно, что их изучают. Некоторые люди любят обложиться книгами, чтобы произвести впечатление на окружающих, но Сталин был не из таких.
О режиссуре. Честно говоря, я до сих пор не уверена, можно ли научиться режиссуре по учебнику. Здесь, как мне кажется, все дело в понимании сути процесса и в таланте. Приведу один простой пример. Порой, во время наших совместных прогулок или поездок, Г.В. может замереть на месте и воскликнуть: «Какой чудный кадр!» Я вижу улицу, по которой идут люди, или, скажем, поле, по которому едет трактор, а Г.В. смотрит на то же самое и видит кадр! Это особый дар, уметь так видеть. Любая задуманная картина, еще до начала съемок, рождается в уме у Г.В. Целиком, от начала до конца. Поэтому ему так важно заранее распределить все роли, даже самые маленькие, ведь он должен все это представить. При подобном подходе режиссеру неизменно сопутствует удача.
Весной 1938 года, после просмотра «Волги-Волги», Сталин сказал Г.В.:
— Хорошая у вас получилась картина, товарищ Александров! Глаза от нее не устают нисколько! Хочется прямо сейчас еще раз ее посмотреть!
* * *
То, что было между мной и Сталиным, касалось только нас двоих и никого более. Но любое событие вызывает определенные последствия. Не вдруг, но постепенно изменилось отношение к Г.В. Те, кто раньше не отказывал себе в удовольствии подпустить шпильку или как-то уязвить его, раскритиковать (большей частью необоснованно, на пустом месте), превратились если не в друзей Г.В., то, во всяком случае, перестали быть врагами. Нападки прекратились. Само собой, с течением времени возрастал авторитет Г.В., постоянно подтверждавшего свое профессиональное мастерство. Это тоже сказывалось на отношении к нему. Признание его заслуг, награды и пр. также сыграли свою роль. Но, кроме того, я чувствую, догадываюсь (не знаю, но догадываюсь), что где-то наверху было сказано веское слово про Г.В. Слово, после которого все нападки теряли свой смысл, грозили обратиться против самих нападавших. И это слово мог сказать только один человек — Сталин. Я чувствовала, что так оно и было, но спрашивать не спрашивала, считая подобные вопросы неуместными. Но чувство благодарности, и без того переполнявшее меня, стало еще больше. Оно все росло и росло, и сейчас я упрекаю себя за то, что не смогла, не успела выразить свою благодарность Сталину в полной мере, так, как Он этого заслуживал. Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня — сколько же мудрости заключено в этой пословице. Не сегодня, после, потом… Мы откладываем и откладываем, а время бежит, мчится, летит. Время летит, люди уходят, и когда спохватишься, соберешься, то человека уже нет. Я давно поняла, что нельзя ничего откладывать, и стараюсь делать так. Перед тем как лечь спать, вспоминаю прошедший день и ставлю себе на вид, если что-то не успела или отложила на будущее. Кто знает, сколько его осталось, этого самого будущего? Вот, написала эти слова и поняла, что запись своих воспоминаний тоже не следует растягивать надолго. Любое дело чего-то стоит лишь тогда, когда оно сделано, доведено до конца. Впрочем, осталось не так уж и много, примерно две трети уже сделано, ведь я собралась писать не обо всей моей жизни, а о части ее, самой счастливой части.