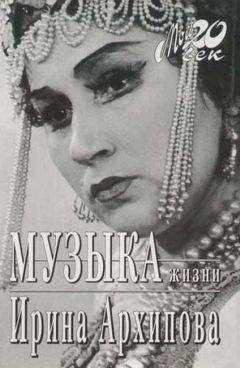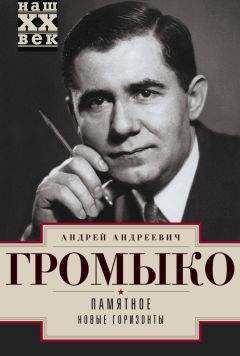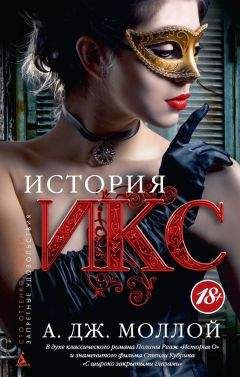А тогда, в начале 50-х, я еще несмело вошла в квартиру, где прожила последние годы замечательная русская певица, увидела перед собой Марию Петровну Максакову, Александра Степановича Пирогова, других известных артистов Большого театра, некоторых из которых я знала только по фамилиям и голосам, но пока не знала в лицо. Среди присутствовавших был и муж Антонины Васильевны — выдающийся дирижер Николай Семенович Голованов.
Члены совета приняли нас, нескольких молодых певцов, тепло и доброжелательно. Хотя от волнения и страха я была скована, но спела все хорошо и получила одобрение выдающихся мастеров. Они-то и посоветовали мне пойти на ближайшее, весеннее прослушивание в стажерскую группу Большого театра. После этого заседание совета продолжилось, а мы остались в квартире и слушали, что обсуждалось на нем. Помню, как много полезного, нового и интересного узнала я для себя, присутствуя при разговоре замечательных певцов.
Прослушивание в Большом театре проходило в Бетховенском зале, куда пришло много артистов театра: и певцов-солистов, и артистов хора — всем хочется в таких случаях послушать молодых вокалистов, среди которых, возможно, есть и их будущий коллега. По просьбе жюри, сидевшего в середине зала, я спела сначала романс Полины из «Пиковой дамы», а потом меня попросили исполнить арию Любаши из «Царской невесты». Хотя я была очень «зажата» от волнения, держалась не очень смело, все-таки у меня хватило духу задать жюри прямой вопрос: «Арию или ариозо?» Дело в том, что в этой опере у Любаши есть и ариозо (в первом акте), и ария (во втором). Ария, как это ни покажется странным, для пения легче, а ариозо труднее и более подходит для демонстрации вокальных способностей певца.
Очевидно, в составе жюри не было никого, кто бы знал до тонкостей меццо-сопрановый репертуар, и мне подтвердили просьбу исполнить именно арию. Среди прослушивавшихся в тот раз была еще одна певица, тоже меццо-сопрано, которая держалась более уверенно, раскованно и по своим внешним данным очень напоминала Веру Александровну Давыдову, которая тогда еще выступала на сцене Большого театра. Конечно, из нас двоих, пришедших тогда на прослушивание, взяли стажером не меня, сказав при этом, что я держалась слишком несмело. О голосе не было сказано ничего…
Второй раз я ходила прослушиваться в Большой театр через некоторое время, уже будучи аспиранткой консерватории. Отбор проходил в здании филиала Большого театра, на этот раз летом, когда сезон уже закончился и большинство певцов разъехалось из Москвы — на отдых или на гастроли. Это обстоятельство отразилось на составе комиссии: в ней не было никого из крупных мастеров, чтобы судить вполне профессионально о тех молодых певцах, которые пришли на прослушивание. Кто-то из сидевших в комиссии театральных чинов после моего выступления вполне равнодушно, явно для отговорки, сказал мне какую-то дежурную и при этом выдававшую его непрофессионализм фразу, которая мне все объяснила: он не может судить с определенностью о прослушанном. Тогда я решила для себя: и зачем мне нужен этот Большой театр? У меня уже сложилось к нему определенное отношение. Какое? Думаю, объяснять не надо… После двух неудачных проб у меня не было никакого желания предлагать свои услуги еще раз. Понадоблюсь — сами позовут. Так и вышло…
Но вот однажды Леонид Филиппович Савранский, которому надоело уже терпеть, что голос его ученицы все еще остается невостребованным (он возмущался: «Не могу видеть, что вы не поете! Куда это годится?»), повел меня к Г. М. Комиссаржевскому, старому театральному деятелю, известному еще до революции импрессарио. Я спела ему несколько вещей. Он тут же при нас по телефону продиктовал телеграмму в Свердловск, директору оперного театра М. Е. Ганелину: «Высокая, стройная, интересная, музыкальная, с полным диапазоном, столько-то лет…» То есть полная характеристика.
Вскоре пришел ответ: Ганелин предлагал мне приехать в Свердловск для прослушивания. Я не поехала — решила продолжать учебу, хотя не все складывалось благоприятно. Через два-три месяца в Москве появилась режиссер Свердловского театра Наталья Брянцева. Она меня послушала и тоже спросила: «Приедете или будете преподавать?» — «Еще не знаю».
В конце театрального сезона в Москву приехал сам М. Е. Ганелин. Прослушал меня и сказал: «Даю вам дебют!» Без всяких проб… Вернувшись в Свердловск, он тут же выслал мне деньги, «подъемные», чтобы я могла выехать. Он был очень хороший директор и решительный человек. Рассчитал все правильно: получив деньги, я уже не смогу отказаться — все-таки у меня перед ним появились обязательства. И я приняла окончательное решение — еду в Свердловск! Тем более что театр там всегда славился хорошим профессиональным уровнем, в то время там пел знаменитый бас Борис Штоколов. Это что-нибудь да значило.
Дома мое решение уехать в Свердловск вызвало настоящую бурю! Родители были категорически против! Папа, хоть и был большим любителем музыки, считал, что работать на подмостках — дело не только не серьезное, но и предосудительное. Театр! Свободные нравы! В этом он напоминал мне мою строгую бабушку Альбину, которая однажды сказала: «Пускай поют другие, а она слушает».
Я старалась переубедить его, приводя в пример его собственную судьбу. Ведь прежде чем стать преподавателем в вузе, он объездил множество строек, получил огромный практический опыт. Каким же я могу стать преподавателем (а именно это представлялось папе солидным занятием — в отличие от сомнительного положения актрисы), если сама не буду знать того, чему надо будет учить других? Он начал сдаваться. В спорах с ним мне помогала моя дорогая Киса Лебедева, которая всегда старалась «устроить» мою певческую судьбу: она долго ходила с ним по улице и убеждала, что петь в оперном театре — это замечательно. Папа успокоился.
Сложнее было с мамой — она не слушала никаких доводов! Мысль о том, что я должна ехать в чужой город, где у нас не было ни родных, ни знакомых, заниматься там легкомысленным делом, просто пугала ее. Она вела себя так, словно я уезжала в ссылку — кричала, что ляжет на рельсы под мой поезд, не пустит, даже попыталась… оттаскать меня за волосы. У меня уже не было сил выносить все это. В то же время понять ее было можно: ей, матери, было спокойней, когда все ее дети были рядом, под крылышком. Мы ведь так привыкли жить вместе, большой семьей.
Я уезжала в Свердловск, оставляя сына Андрюшу у родителей (к тому времени я разошлась с мужем). Потом, когда папу пригласили на работу в Шанхай (советником в одном из институтов), мама вместе с моим младшим братом и с Андрюшей поехали за ним в Китай.