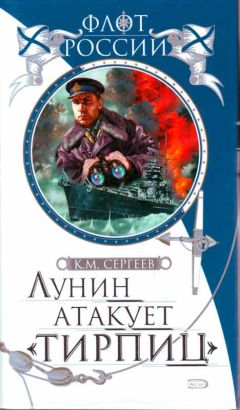Прощальный вечер у командира корпуса был похож на поминки. Над всеми нами грозно нависла тень близившейся катастрофы. В своем кратком слове генерал указал на отчаянность нашего положения, упомянул о неудержимом развале корпуса и перед лицом неминуемой гибели поблагодарил нас за службу. Незадолго до этого наш командир корпуса был у командующего армии. То, что ему там сообщили, не оставляло сомнений в том, что армия обречена. Мы узнали, что последние попытки командования армии получить эффективную помощь извне окончательно потерпели неудачу. Оказались напрасными все просьбы перебросить к нам на самолетах несколько свежих батальонов, и наши энергичные требования направить к нам больше самолетов. Возмущение штаба армии в связи с тем, что командование «люфтваффе» не выполнило своих обещаний, достигло апогея. Мы чувствовали, что нас предали и бросили на произвол судьбы.
Генерал-полковник Паулюс незадолго до Нового года послал в тыл с чрезвычайными полномочиями офицера – первого квартирмейстера штаба армии, который хорошо знал, чем живет и дышит окруженная группировка. Ему было дано указание со всей настойчивостью добиваться в штабе группы армий улучшения снабжения по воздуху. С аналогичной же целью туда вылетел командир окруженной вместе с нами зенитной дивизии. В качестве последнего посланца из «котла» в середине января непосредственно в главную ставку Гитлера вылетел старший помощник начальника оперативного отдела штаба 6-й армии. В частности, ему было поручено добиться вразумительного ответа, можем ли мы рассчитывать на эффективную помощь, и изложить – как говорили – ультимативные требования по спасению армии. Об этой миссии мы слышали еще раньше. То, что она была доверена хорошо знакомому нам молодому, энергичному капитану, награжденному «рыцарским крестом», импонировало нам. Правда, особых надежд у нас это не вызвало, но мы могли быть, по крайней мере, уверены в том, что он смело и откровенно расскажет о наших настроениях верховному главнокомандующему. Для нас было также важно, чтобы в Германии узнали правду о Сталинграде. Посланцы нашей армии не вернулись в «котел». Снабжение по воздуху продолжало и дальше катастрофически ухудшаться, и не удивительно! Немецкий Восточный фронт откатился от нас примерно на 300 километров. Аэродромы в Сальске, Новочеркасске, Ростове и Таганроге, которые можно было использовать для снабжения 6-й армии, находились от нас на расстоянии 320– 420 километров. Без прикрытия истребителями были возможны главным образом ночные полеты, и таким образом мы теперь в лучшем случае получали в сутки не более 50-70 тонн груза. Последний вспомогательный аэродром со дня на день могли захватить русские.
Новая просьба командования нашей армии о предоставлении ему свободы действия и разрешении капитулировать была еще раз отвергнута Гитлером. Совещание у генерал-полковника Паулюса, где был сделан анализ обстановки и шла речь о состоянии и последних возможностях 6-й армии, произвело удручающее воздействие. Командир нашего корпуса прямо заявил, что нам грозит катастрофа. С ожесточением и затаенной злобой он подчеркнул, что мы не по своей вине попали в дьявольски отчаянное положение, из которого теперь уже не могло быть выхода. Однако он ясно дал понять, что нас связывает наш солдатский долг. Выполняя полученный приказ, мы плечом к плечу с винтовками в руках будем драться до последнего патрона. Из его слов явствовало, что он твердо намерен поступить, подобно капитану тонущего корабля, и не собирается пережить гибель своей части. Недвусмысленно он дал понять, что заповедь солдатской чести теперь беспрекословно требует от нас принесения последней жертвы.
Такая позиция, которая противоречила моим тайным личным убеждениям, казалась мне понятной и логичной, когда дело касалось нашего генерала, имевшего за своими плечами почти полвека военной службы. Я смотрел на его волевое, изборожденное морщинами лицо, на его ордена и знаки отличия, и мне казалось, что он мысленно оглядывается на свою долгую и беспокойную солдатскую карьеру, которая теперь должна была так резко и печально оборваться. В свои 65 лет он был, пожалуй, самым старым из фронтовых корпусных командиров, причем ему явно был отрезан путь к продвижению по службе, хотя он одно время и командовал армией во Франции. В прошлом он был председателем имперского военного суда, и, очевидно, его чересчур откровенные речи и крепкие выражения, порожденные присущим ему здоровым человеческим рассудком, сделали его непопулярным в глазах начальства. В блиндаже командующего корпусом были выставлены памятные знаки и подарки, которые мы преподнесли ему осенью к его пятилетнему юбилею на посту командующего.
Капитаном он встретил крушение кайзеровской монархии и катастрофу в первой мировой войне. Из его рассказов и анекдотов, которыми он любил сыпать, мы знали некоторые подробности его дальнейшей карьеры и невзгоды, которые он пережил. Но то, что происходило теперь, было ни с чем не сравнимым ужасом. Генерал не стал распространяться о более глубоких причинах нашей катастрофы, хотя был, видимо, убежден, что в самых верхах роковым образом дискредитировали то дело, которому он верно служил на протяжении не одного десятка лет. Теперь, когда наше дело было безнадежно проиграно, как он дал понять, нам не оставалось ничего другого, как повиноваться приказу, к чему мы были приучены, чего от нас тысячи раз требовали, и что мы всегда беспрекословно выполняли. Конечно, и ему самому было нелегко примириться с происходящим. Слишком многое из того, что делало верховное командование за последнее время, противоречило его инстинкту старого солдата. Его одолевала едва сдерживаемая ярость, когда он рассказывал нам о судьбе генерала Гейма, которого он лично очень высоко ценил. В начале битвы под Сталинградом этот генерал, имея под своим командованием недостаточно оснащенный, еще не готовый к боевым операциям и не обстрелянный танковый корпус, получил приказ ликвидировать создавшееся в излучине Дона катастрофическое положение. Выполнить этот приказ не было тогда никакой возможности. И тут начались его злоключения. Генерал Гейм, став козлом отпущения, был разжалован Гитлером в рядовые солдаты, с позором изгнан из вооруженных сил и брошен в тюрьму. В назидание другим по этому поводу был издан специальный приказ, с которым были ознакомлены все высшие офицеры. Наш командир говорил об этом с нескрываемой горечью. Однако в остальном же он не проронил ни единого слова открытой критики или укора.
И все же генерал заметно изменился. Правда, его глаза еще сверкали под густыми кустистыми бровями от возмущения и гнева, когда речь зашла о дезертировавшем квартирмейстере, ибо то обстоятельство, что это совершил офицер его штаба, чуть не выбило генерала из колеи. Однако присущие ему грубоватая суровость и резкая, порой язвительная манера выражаться словно покинули его в этот вечер. Казалось, что в нем что-то надломилось и проявились обычно подавляемые им человеческие чувства. Он предстал перед нами общительным и мягким человеком, и наша беседа вылилась в тоскливое воспоминание о прошлом. У меня было такое впечатление, словно в тайнике души генерала шевелится глубокое сострадание к армии, принявшей на себя муки самопожертвования.