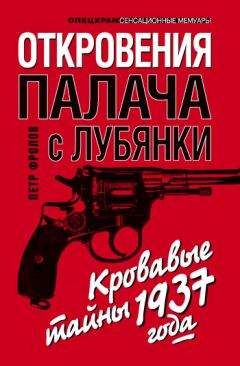Последняя беседа со следователем не позволяла иметь какие бы то ни было иллюзии о том, что означало для меня «с вещами».
— Тебя переводят в другую камеру, — сказал капрал.
Я тоже считал, что меня переводят.
— Жаль, — добавил капрал, — мы еще многого не успели выучить.
Я тоже жалел.
В этой маленькой камере я просидел три месяца, а по тюремному счету — целых сто дней и ночей. Привык к соседям, они привыкли ко мне. Между нами были невидимые перегородки, мы спорили и ссорились, но мы успели узнать друг друга, научились понимать и прощать. Мы превратились в маленькую общину с ее неписаным уставом. Здесь я немного учил других и многому научился сам. Здесь я провел период следствия, здесь принял трудное решение… Жаль… Кто теперь будет моим соседом?
Но в тюрьме нет времени для излияний. Раздаются слова, которые слышны от одного края Советского Союза до другого — во всех тюрьмах, во всех концлагерях, на всех перевалочных пунктах: «Давай поскорей!» — ворчит охранник. Надо торопиться, собирать вещи и прощаться с соседями.
Капрал снял с полки мою миску, чашку и деревянную ложку — посуду, с которой заключенный не расстается. Я собрал свои немногие вещи. За время пребывания в тюрьме я получил несколько небольших посылок, но в одной из них была настоящая ценность: зубная щетка. Ах, эти маленькие посылочки. Мы обыскивали их куда более тщательно, чем тюремная охрана. Искали какого-нибудь знака от родных: нитки, вышивки на рукаве, под воротником… Ничего не находили. Но и без вышитой весточки эти маленькие посылочки были для нас длинными письмами: тебя помнят, о тебе заботятся, о тебе думают… Теперь пальцы снова ощупывают матерчатые «письма», от которых несет теплом далекого дома.
— Давай поскорее! — снова ворчит охранник. — закругляйтесь, закругляйтесь.
Да, пора закругляться.
Мой ученик-капрал продолжал помогать мне, но офицер стоял в стороне и напряженно молчал. Дело было, к сожалению, после одного из наиболее тяжелых приступов его любви к порядку. Двадцать четыре часа он не разговаривал ни со мной, ни с капралом. Как с ним проститься? Не было времени думать, не было времени ждать примирения, которое в обычных случаях раньше или позже наступало само собой. Я протянул ему руку, и он, забыв все обиды, горячо ее пожал.
— До свидания, всего хорошего! Всего, всего вам хорошего.
Капрал протянул мне узелок с вещами. Мы обнялись.
— До свидания, всего хорошего!
— Ты все же подумай об этом деле! — успел прокричать офицер.
— Спасибо, от всего сердца спасибо. До свидания, всего хорошего!
Я понял, что он имел в виду. Я еще не успел отправить заявление о разводе… Дверь камеры захлопнулась за мной, разлучив меня с моими соседями.
Больше я их никогда не видел.
Меня ввели в большую, общую камеру. К стенам были прикреплены двенадцать железных коек, но в камере было не менее тридцати человек. К койкам не притрагивались, как не притрагивались к единственной койке в моей прежней камере — все спали на полу.
В основном здесь сидели бывшие военнослужащие польской армии. Одному из них, офицеру, пришлось «понюхать» пистолет следователя. Я пытался с ним заговорить, но сблизиться с гордым, как породистая лошадь, кавалерийским офицером оказалось невозможным.
Об этой камере мне нечего рассказать — я просидел в ней лишь несколько дней. Оттуда меня вместе с несколькими другими арестованными перевели в другую камеру, тоже общую. Но не успел я в ней обжиться, как меня перевели снова — какой смысл в этих переводах, никто не знал — в третью общую камеру, которую я не покидал уже до самого конца пребывания в Лукишках.
В первый день после прибытия на «постоянное жительство» выяснилось одно обстоятельство, которое мучило меня своей загадочностью еще со времен ночных допросов. Во время одного из теоретических споров о марксизме, коммунизме и сионизме следователь спросил меня:
— Вы Бернштейна знаете?
— Да, — ответил я, — читал. Это создатель ревизионизма в социалистическом движении.
— О чем вы говорите? — удивился следователь.
— О Бернштейне, о его дискуссии с Каутским.
— А, опять ваша болтовня, — промямлил следователь и перешел к основной теме.
Я ничего не понял.
Я не понимал изумления и насмешливого тона следователя, пока не познакомился с заключенными моей четвертой камеры. Как обычно, я назвал свое имя, а они по очереди свои имена. Один из, них громко и отчетливо сказал:
— Бернштейн.
Мордехай Бернштейн был одним из руководителей Бунда в Польше. Его следователь в Лукишках дружил с моим следователем. Они наверняка часто делились впечатлениями о «клиентах»; вопрос моего следователя был поэтому случайный, но вполне естественный. Тут обнаружился поразительный факт: офицер НКВД, слушатель школы марксизма-ленинизма, воспитанник революции, цитировавший наизусть «Краткий курс истории ВКП(б)», ничего не слышал об Э. Бернштейне, как я ничего не слышал о Мордехае Бернштейне. Образование советских марксистов молодого поколения весьма одностороннее, и это относится даже к истории марксизма. Следователь, может быть, думал, что я собираюсь бундовца превратить в настоящего ревизиониста…
Бернштейн (Мордехай) искренне посмеялся над недоразумением в связи с его именем; я от души смеялся над вопросом его следователя о бундовско-ревизионистском составе Второго Интернационала. Наши идеологические разногласия невозможно было преодолеть даже в Лукишках, но Бернштейн оказался добрым человеком, хорошо знал иврит, умел шутить в самые трудные часы, и мы сдружились.
В общей камере я встретил еще одного бундовца — известного варшавского врача-стоматолога доктора Лифшица. Он тоже оказался «врагом народа», «ставленником буржуазии» и «сподручным польской тайной полиции». Как и его товарищ по Бунду, Лифшиц заявил следователю, что именно компартия кишмя кишит полицейскими агентами и это нетрудно доказать: Коминтерн распустил польскую компартию из-за внутренних провокаций и раздоров. Но ему не помогли эти аргументы. Он тоже выслушал «контраргументы» в виде отборных ругательств и тоже протестовал. Ему приходилось очень тяжело и в камере, он мучительно страдал от голода. В отличие от своего единомышленника, Лифшиц был по натуре пессимист. Но в одном пункте он проявлял оптимизм: «Если Гитлер будет побежден, — говорил он обычно, делая ударение на слове если, — вы, сионисты, воспользуетесь плодами этой победы, так как Англия в этом случае наверняка даст вам государство». Англичане нам государство так и не дали, но оно все же было создано. От «пророков» нельзя требовать абсолютной точности.