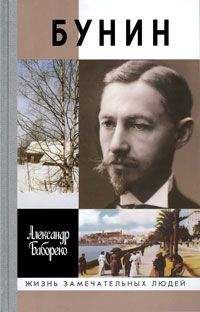На телеграфный запрос Бунина о сыне Федоров отвечал 22 января: «Все, что можно было сделать для его спасения, было сделано — и доктора, и профессора, и все прочее. Тут несчастье, ужасное несчастье, в котором никто из близких не виноват. Это что-то роковое. Знаю, что тебе от этого не легче. Знаю, что ты должен страдать ужасно. Страдают и они. Говорят, Аня до такой степени потрясена, что на себя стала не похожа. Также и Элеонора Павловна и родные. Я боялся идти туда, во-первых, потому, что страшно в такие минуты быть лишним, страшно оскорбить своим присутствием, словами людей, горе которых выше всего условного, сколько бы искренности и сочувствия ни вносилось в это. Да и измучен я последними событиями ужасно»[279].
Речь идет о событиях 9 января и последовавших за этим волнениях. Бунин уехал в Москву.
«Иван Алексеевич не мог усидеть в Москве, кинулся в Петербург, — писала В. Н. Муромцева-Бунина, — Юлий Алексеевич, зная натуру брата, настаивал в свою очередь, чтобы тот поехал и узнал все на месте из первых рук… В Петербурге… он повидался с друзьями: с Куприным, Елпатьевскими, Ростовцевыми, Котляревскими, заглянул во все редакции, с которыми был связан, в „Знание“, отправился и на заседание „Вольноэкономического общества“, где произносились смелые речи.
Северная столица отвлекла его, но рана не заживала, да и зажила ли она когда-нибудь? В последние месяцы его жизни, когда он почти не вставал с постели, у него на пледе всегда лежал последний портрет живого сына… В чем-то Иван Алексеевич был скрытен. Жаловался на Цакни, что у них „двери на петлях не держались“ и скарлатину занес кто-нибудь из гостей» [280].
В марте Бунин возвратился из Петербурга в Москву. В начале апреля он уехал в Ялту; 7 или 8 апреля 1905 года Горький писал К. П. Пятницкому из Ялты: «Приехал сюда Бунин» [281].
Он бывал у Чеховых, встречался с Горьким. Писал Федорову 25 апреля 1905 года: «Вижусь с Горьким теперь каждый день, и проводим время очень приятно. Я за эти дни заразил его стихоманией, предварительно убив его „Сапсаном“» [282].
В мае Бунин приехал в деревню — жил сперва в Глотове, а потом в Огневке.
Вера Николаевна Муромцева-Бунина пишет: «Всех он нашел в большой тревоге: мать на холодной заре вымылась в сенцах и схватила, по-видимому, воспаление легких, температура высокая. Младший сын чуть с ума не сошел, — ведь со дня смерти маленькой сестры он был в вечном страхе за жизнь матери, — тут она жила в глуши, без хорошего врача, с ее астмой и ненадежным сердцем… Решили пригласить земского елецкого врача Виганда, замечательного диагноста и целителя…
Стояла рабочая пора. Евгений Алексеевич лошади не дал. Пришлось за дорогую цену Ивану Алексеевичу нанять лошадь в деревне у Якова, мужика скупого и хозяйственного. „Выехали ранним утром, когда особенно хорошо в погожие июльские дни бывает только в средней полосе России, в подстепье. Ехать нужно было двадцать пять верст. Яков все время соскакивал с облучка телеги и шел рядом. Я не знал, что делать, боялся не застать Виганда дома…“ — вспоминал об этой поездке Иван Алексеевич незадолго до своей кончины…
К счастью, он застал доктора дома, и тот согласился приехать. К общей радости, Людмила Александровна, с помощью редкого врача и благодаря своему сильному организму, начала поправляться» [283].
В июле 1905 года Бунин поехал в Финляндию к Горькому. Вернувшись в Огневку, он 17 июля писал Федорову:
«Был в Москве, в Финляндии. Горький вызывал меня на совещание о новом журнале типа Симплициссиумуса. Выйдет ли это дело — не знаю, но совещание было любопытное. Было очень много художников, и между ними знаменитые финляндцы — Галлец, Эрнефельд, Саарин, а из русских — Серов, Билибин, Грабарь и т. д. Видел Елпатьевского, Скитальца, Андреева. Купришка удрал на Кавказ. Видел ли ты его, и какое он произвел на тебя впечатление? Говорят — бодр, весел и задумал драму.
Я строчил стихи. А ты? Пожалуйста, пришли что-нибудь почитать» [284].
Бунин печатал многие свои произведения в сборниках «Знания», в дешевой библиотеке «Знания». В новом журнале Горького «Жупел», о котором и шла речь в письме к Федорову, Бунин напечатал стихотворение «Ормузд». В 1905–1906 годах вышло три номера этого журнала, после чего он был закрыт.
На сентябрь Бунин уехал из деревни в Москву, а оттуда — в Крым, по приглашению М. П. Чеховой, которая писала Бунину 12 августа: «Приезжайте на осень в Ялту. Отдохнете хорошенько, не будете тормошиться, поживете спокойно и поправитесь здоровьем. Потом, хотя бы перед рождественскими праздниками и на праздники, если у вас будет охота, проедемтесь за границу, где потеплее, или уже оставим до весны» [285].
С конца сентября и до 18 октября 1905 года Бунин жил в ялтинском доме Чехова. 29 сентября он писал Н. А. Пушешникову из Ялты: «Пишу на балконе, утро, на солнце — жара невыносимая, светло, радостно. Вдали море — тихо, голубая воздушная бездна»[286].
Позже Бунин вспоминал: «В 1905 году, с конца сентября и до 18 октября, я в последний раз гостил в опустевшем, бесконечно грустном ялтинском доме Чехова, жил с Марьей Павловной и „мамашей“, Евгенией Яковлевной. Дни стояли серенькие, сонные, жизнь наша шла ровно, однообразно — и очень нелегко для меня; все вокруг, — и в саду, и в доме, и в его кабинете, — было как при нем, а его уже не было! Но нелегко было и решиться уехать, прервать эту жизнь. Слишком жаль было оставлять в полном одиночестве этих двух женщин, несчастных сугубо в силу чеховской выдержки, душевной скрытности; часто я видел их слезы, но безмолвно, тотчас преодолеваемые; единственное, что они позволяли себе, были просьбы ко мне побыть с ними подольше: „Помните, как Антоша любил, когда вы бывали или гостили у нас!“ Да и мне самому было трудно покинуть этот уже ставший чуть ли не родным для меня дом, — а я уже чувствовал, что больше никогда не вернусь в него, — этот кабинет, где особенно все осталось, как было при нем: его письменный стол со множеством всяких безделушек, купленных им по пути с Сахалина, в Коломбо, безделушек милых, изящных, но всегда дививших меня, — я бы строки не мог написать среди них, — его узенькая, белая, опрятная, как у девушки, спальня, в которую всегда отворена была дверь из кабинета. А в кабинете, в нише с диваном (сзади кресла перед письменным столом), в которой он любил сидеть, когда что-нибудь читал, лежало „Воскресение“ Толстого, и я все вспоминал, как он ездил к Толстому, когда Толстой лежал больной в Крыму, на даче Паниной»[287].