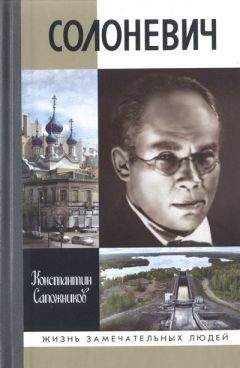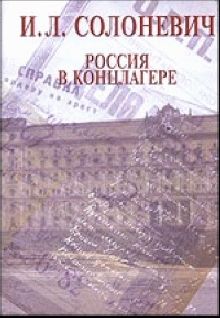В Лефортовском изоляторе
После отъезда делегации, я стала искать себе новую работу. Мечты о загранице, которая одна могла избавить нашу семью от большевицкой жизни, нас не оставляли. Я решила попытать счастья в Наркомате Внешней Торговли. Подала заявление о том, что прошу командировать меня в какое-нибудь торгпредство в качестве стенографистки-машинистки со знанием четырех языков. Заявление было принято, меня пригласили на экзамен, проверили знание стенографии и знание языков, затем спросили — где я работаю. Когда я сказала, что я безработная, сделали кислую мину и предупредили:
— Вот когда вы найдете работу в Москве, да послужите парочку лет в учреждении, имеющем какую-либо связь с заграницей, тогда приходите снова. Из провинции мы работников не командируем.
Одновременно со мной держала испытание стенографистка Профинтерна, которая хотела переменить работу. В день, когда мне отказали, я встретила ее на лестнице Наркомвнешторга, она бежала красная и возбужденная вверх. Я спускалась.
Не останавливаясь, она помахала мне рукой и крикнула:
— Иду за паспортом, уезжаю в Константинополь!
Как я ей позавидовала! И вместе с этой завистью в мою душу закралась мысль о том, что, может быть, для осуществления нашей цели — ухода из СССР — стоит начать работать как раз в Профинтерне. Но эта мысль зажглась и потухла. Однако, судьба ее, как будто подслушала, потому что на следующий день Гецова позвонила моему мужу на службу и сказала, чтобы я пришла, так как для меня есть временная работа.
Снова Дворец Труда. Длинные полутемные коридоры, полные мечущихся людей, разыскивающих то тот, то другой профсоюз. Ибо до самого последнего времени человек, попадавший во Дворец Труда, бродил, как верблюд в пустыне. Бесплодны всякие вопросы, задаваемые встречным, можете быть уверены, что они тоже ничего не знают и направить вас в нужное место не могут. Комнаты, комнаты, комнаты с номерами, очень часто безо всяких надписей. Как тут что-нибудь найти? Только в 1932 году начальству пришла в голову гениальная по своей простоте мысль — вывесить в каждом этаже список помещающихся в нем учреждений. Но так как в Советской России нет ничего стабильного, учреждения эти кочуют из комнаты в комнату и из этажа в этаж, так что и знаменитые указатели большой помощи советским гражданам оказать не могут.
Снова Комиссия Внешних Сношений. И снова товарищ Гецова, «висящая» на телефонах. Десять минут ожидания. Потом;
— Ах это вы, товарищ Солоневич? Хорошо, что пришли, а то я хотела уже за вами посылать. Надо пойти с двумя австралийцами в Кремль и в Лефортовский изолятор. Сейчас устрою пропуска.
Потом взгляд на мои ноги. А в Салтыковке к концу ноября так развезло, что туфли мои являют собой совсем не эстетическое зрелище. Я пытаюсь их спрятать под стул, но Гецова продолжает:
— Что это, разве у вас калош нет?
— Нет. Искала — искала, но никак не могу найти.
— В таком виде нельзя идти с иностранцами. Надо почистить. А на калоши я вам выпишу талон в Инснаб.
Сказала и опять повисла на телефонах. Звонила в Кремль, в Управление Домами Заключения, опять в Кремль.
Я смотрела на эту красивую женщину и вспомнила, как Софья Петровна рассказывала мне, что Таня Гецова из очень хорошей семьи, и что поэтому ее не принимают в партию, что она была крайне несчастна в браке, развелась, а теперь влюблена в одного немца — видного коммуниста. Он приехал в Москву с какой то немецкой делегацией. Таня была тогда еще переводчицей — она отлично владеет немецким языком — поехала с делегатами в турне по России, оба влюбились друг в друга, но он оказался женатым человеком и… уехал обратно в Берлин.
Через год после того, как я познакомилась с Гецовой, она добилась разрешения на кратковременный выезд в Берлин, причем клятвенно обещала вернуться в положенный срок. За нее поручились два коммуниста, — а когда срок пришел, она не вернулась, вышла в Берлине фиктивно замуж за немецкого коммуниста Штрауса и стала германской подданной, так что большевикам не оставалось ничего иного, как с этим фактом примириться. Когда в 1928 году я приехала на служу в Берлинское Торгпредство, я встретила Гецову как то вечером в торгпредском клубе на Дессауэрштрассе, а потом, — потом произошло нечто совсем для меня неожиданное. Придя в обеденное время наверх, в «казино», т. е. в торгпредскую столовую, я своим глазам не поверила. Гецова, ворочавшая когда то Комиссией Внешних Сношений, стала заведующей торгпредской столовой. В белом халате, она бегала между столами, а иногда и носила сама тарелки с супом или жарким товарищам, которые иногда громко выражали недовольство размером порции, или найденным в тарелке женским волосом.
Она меня часто приветливо останавливала, заговаривала со мной о том и о другом, приглашала к себе (она жила со своим возлюбленным, который так развода добиться и не смог, и имела от него ребенка). Но я к ней так и не собралась.
В торгпредской столовой, как правило, шли кражи и злоупотребления, Гецова стала экономить на том и на другом, меню ухудшилось, сотрудники возмутились, стали писать о ней в стенгазете, стали форменно ее травить, так что в один прекрасный день она пришла ко мне и стала спрашивать, на знаю ли я, в какой отдел ей проситься, чтобы как-нибудь избавиться от столовки.
Очевидно, принимая во внимание ее прошлые заслуги перед советской властью, а также роль, которую играл ее фактический муж в германской коммунистической партии, — к ней отнеслись и на этот раз снисходительно, и перевели ее экономистом в отдел оптических приборов, но потом окончательно сократили. Впрочем, ей удалось перекочевать в Дерунафт (Deutsch-Russische Naphta-Gesellschaft). Оказалось, что в Германии она сразу поступила в немецкую компартию, чем очень гордилась. Как она живет в новой национал-социалистической Германии, сказать затрудняюсь.
***
Через два часа я сидела в шикарном номере гостиницы «Савой» и ждала, пока миссис X. пудрилась, я надевала шляпку. Оказалось, что это действительно австралийцы: он — миллионер из Мельбурна, пожилой дородный господин, с добродушным румяным лицом, она — прехорошенькая француженка лет тридцати, избалованная и капризная. В автомобиле, который повез нас в Кремль, австралиец сидел на переднем сиденье и два раза чуть не вылетел на мостовую, так как дверца то и дело раскрывалась, а шофер заворачивал на углах с беспощадным ухарством, свойственным, кажется, во всем мире только московским шоферам.
У всех ворот Кремля стоит сильная охрана. Комендатура находится у Никольских ворот. Я зашла в комендантскую с пропуском, дежурный справился по телефону, отметил число, час и минуту нашего входа, и мы все трое прошли под столь знакомыми мне по моим прежним посещениям Москвы в детстве и юношестве сводами Никольских ворот. У меня сильно билось сердце. Ведь я вхожу в цитадель большевизма. Здесь где то, в этих прекрасных белых дворцах, решаются судьбы моего народа, здесь выносятся драконовские и бессмысленные законы, здесь спит, ест и живет всеми ненавидимый, страшный Сталин…